Т.К. АЛЛАХВЕРДИЕВ Параинституции как латентная стратегия институциональной критики в современном искусстве России
ПАРАИНСТИТУЦИИ КАК ЛАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КРИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ
Научная статья
УДК 7.01+7.036(470)
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-1-35-49
Дата поступления: 07.01.2025. Дата одобрения после рецензирования: 03.03.2025. Дата публикации: 15.04.2025.
Автор: Аллахвердиев Тимур Казбекович, магистр юриспруденции, преподаватель-исследователь (искусствоведение) (Москва, Россия), e-mail: allerme64@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3310-7571
Аннотация: Статья посвящена изучению жанра институциональной критики в современном российском искусстве. В то время как во многих странах институционально-критическая традиция является неотъемлемой частью художественного процесса, в России ее развитие остается малоизученным и несистематизированным. Институциональная критика как глобальный феномен оказала значительное влияние на искусство последней четверти XX века, но ее российская специфика требует дополнительного анализа. В ходе исследования выделяются две стратегии российской институциональной критики: манифестарная и латентная. Латентная стратегия реализуется через создание параинституций – конструируемых художниками перформативных институций, работающих вне традиционных институциональных рамок. Анализ их деятельности позволяет предположить, что современные российские художники используют институцию как медиум, что можно рассматривать как один из ключевых векторов институциональной критики в условиях «посткритического поворота».
Ключевые слова: институциональная критика, концептуальное искусство, параинституции, современное искусство, посткритика
PARAINSTITUTIONS AS A LATENT STRATEGY OF INSTITUTIONAL CRITIQUE IN CONTEMPORARY RUSSIAN ART
Research article
UDC 7.01+7.036(470)
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-1-35-49
Received: January 7, 2025. Approved after reviewing: March 3, 202?. Date of publication: April 15, 2025.
Author: Allakhverdiev Timur Kazbekovich, Master of Laws, researcher (art history) (Moscow, Russia), e-mail: allerme64@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3310-7571
Summary: The article is devoted to the Russian realization of a conceptual art movement known as institutional critique. In many countries of the Western world and in some others the tradition of institutional critique is an important component of the local context. At the same time, institutional critique as a global phenomenon had a decisive influence on art in the last quarter of the 20th century, but it has never been systematically studied in Russia. Two strategies of Russian institutional critique – manifest and latent – are distinguished by the author. The latent strategy is implemented through the creation of parainstitutions – speculative organizations. Based on the results of analyzing the principles of work of the selected parainstitutions, it was assumed that artists began to use the institution as a medium. This trend can be characterized as one of the main vectors of institutional critique in the conditions of the so-called “postcritical turn”.
Keywords: institutional critique, conceptual art, parainstitutions, contemporary art, postcritique
Для цитирования:
Аллахвердиев Т.К. Параинституции как латентная стратегия институциональной критики в современном искусстве России // Артикульт. 2025. №1(57). С. 35-49. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-1-35-49
Введение
История и настоящее современного российского искусства, как правило, редко предполагает артикулированную и последовательную академическую дискуссию о таком специфическом явлении внутри художественной культуры, как институциональная критика. За время своего существования институциональная критика перестала быть исключительно лишь жанром современного искусства. Она обрела черты широкого междисциплинарного дискурсивного поля с обманчивыми границами, предметами и объектами, что, в конечном счете, привело к размытию определений критики и институции в контексте искусства.
Официально зарегистрированные независимые художественные институции начали появляться в России практически сразу после распада СССР (в их числе галерея «Риджина», Галерея Марата Гельмана1, XL Gallery и другие). Прошли десятилетия, прежде чем они стали акторами, по-настоящему определяющими локальный художественный контекст. Эти обстоятельства вкупе с особенностями культурной политики СССР могут выступать в качестве препятствия для того, чтобы исследовать российскую институциональную критику. Однако если отказаться от опоры на западный канон, мы обнаружим отечественную традицию институционально-критического искусства, отличающуюся собственными характерными стратегиями.
Цель исследования – выявить содержание латентной стратегии российской институциональной критики, ее исторические корни и отличия от манифестарной стратегии. Для достижения этой цели в статье анализируются параинституции – созданные художником или художниками спекулятивные организации. Параинституции получили широкое распространение в российском искусстве нулевых и десятых, став одним из способов критики status quo мира искусства посредством утверждения альтернативных или воображаемых нарративов. Анализ подтверждается наиболее показательными примерами в соответствии с выбранными предметом и методологией исследования.
Статья начинается с исследования понятия параинституции, попытки предложения его однозначного определения, изучения связи с институциональной критикой и посткритикой. Во второй части я указываю на различия манифестарной и латентной стратегии российской институциональной критики, уделяя особое внимание историческому контексту. Я обращаюсь к раннесоветским авангардным практикам, характерным, например, для производственного искусства. В этих практиках обнаруживаются первые признаки нестандартного прочтения институции, связанного с воображением и фантазией. В заключительной части на конкретных примерах демонстрируется, как посредством использования институции в качестве медиума реализуются обозначенные сценарии в современном искусстве России.
Методологические основания исследования предполагают анализ параинституций через призму посткритики, что дает возможность рассматривать их в качестве институционально-критических агентов. В отличие от классической институциональной критики, привязанной к традиционным критическим моделям, связанным с «герменевтикой подозрения», параинституции (воспроизводящие посткритическую логику) помогают выявить альтернативные (латентные) стратегии институциональной критики, для которых не характерен открытый протест или разоблачение.
Посткритика не является строгой методологией в привычном смысле, скорее представляя собой комплекс междисциплинарных подходов. Она уличает традиционную критику в хроническом бесплодном скептицизме, допуская новые способы взаимодействия с объектами исследования – основанные на аффекте и интуиции. Что, в свою очередь, открывает пространство для новых форм институционального. Использование посткритического подхода позволило выделить две стратегии российской институциональной критики: манифестарную и латентную.
Анализ параинституций в работе строится на разборе конкретных художественных практик и их институционально-критических коннотаций. Параинституции рассматриваются в том числе как динамические процессы, включающие элементы игры, фантазии, симуляции и мимикрии. Исследуется их способность действовать в качестве медиума, что позволяет художникам переприсваивать институциональный дискурс и конструировать новые способы его осмысления. Таким образом, посткритика позволяет не только реконфигурировать институциональные нарративы, но и исследовать способы их трансформации через художественные практики, что делает ее важным инструментом для анализа параинституций.
Параинституция как институциональная посткритика
В 2015 году С. Люттикен называет параинституции и т.н. «альтер-институции» «создаваемыми художниками организациями, которые (по крайней мере, частично) основаны на мире искусства и его организационных структурах, но которые не являются художественными институциями, в том числе даже в альтернативном ключе в смысле artist-run spaces» [Lütticken, 2015]. Далее он конкретизирует свою позицию, называя соответствующее явление «обобщенной эстетической практикой, которая осуществляется за счет прагматичного растягивания границ или эксплуатации растущей проницаемости как институций, так и социальных полей» [ibid]. Для него параинституции и альтер-институции – это одна и та же художественная и политическая стратегия, неразрывно связанная с активизмом. Он практически не разделяет их, пользуясь этими терминами как синонимами.
Говоря о границах, Люттикен, вероятно, подразумевает границы институционального, как такового; институционального, переставшего служить исключительно транслятором господствующих нарративных логик. Вобрав в себя внешние формальные признаки институции, мимикрируя под нее, «восставшее» институциональное пытается при помощи описанной стратегии воспроизвести субверсивные сценарии в интересующих его контекстах. Именно границы, сдерживающие дискурс «институционального» внутри дискурса «административно-управленческого» проверяются художниками на прочность. В первую очередь, посредством художественных актов, использующих «институциональность» и «институцию» в качестве медиума.
Хотя понятие медиума достаточно распространено в социологии, медиафилософии и медиатеории, я использую его устоявшуюся в искусствоведении трактовку – в качестве носителя, посредством которого осуществляется художественная коммуникация. Эта ситуация привела к появлению параинституций, «(ре)конструирующих социальное, обращаясь к его конкретным чувственным проявлениям, а также его структурным неясностям и запутанностям» [ibid]. Описываемые процессы складывались исторически. Б. Бухло предлагал выделять «административную эстетику», которая по сути являлась формальной предтечей институциональной критики посредством параинституций [Buchloh, 1990]. Эстетика, в том числе и для Бухло, как известно, больше не может быть сведена лишь к переживанию формы или изящества. Она становится частью социального процесса, в котором участвуют не только художники, но и критики, кураторы, экономисты и государственные структуры. Институты искусства превращаются в своего рода «управляющие органы», которые контролируют, что считается «красивым» или «ценным» в искусстве, формируя весь спектр эстетических предпочтений в рамках общества. Отображением упомянутого процесса является интерес художников к параинституциональным экспериментам.
Люттикен настаивает на том, что эту «эстетическую практику» нельзя уместить в рамках традиционной оппозиции между авангардом как трансгрессией искусства и его попытками соединить искусство с жизнью, с одной стороны, и институциональной критикой, настаивающей на критическом действии внутри существующих институций искусства, с другой. Ее отличает концентрация на потенциальности как главном выразительном средстве. «Эстетика искусства обещает политическое завершение, которое не может выполнить, и процветает в этой двусмысленности» – констатирует Ж. Рансьер [Rancière, 2002]. «Движения, которые пытались быть одновременно политическими и художественными, были по своей природе нестабильны», отвечает ему Люттикен, приводя в качестве примера опыт Ситуационистского интернационала [Lütticken, 2015].
Согласно Люттикену, параинституции или альтер-институции являются не связанным с т.н. artist-run space способом миграции за институциональные пределы, выходом из сценария «критики изнутри» по типу канонических примеров институциональной критики. Мы не можем согласиться с ним ввиду существования большого количества параинституций, взаимодействующих с институциями, более того – непосредственно существующих на их базе. Люттикен относит параинституции к предлагаемому зонтичному термину «альтеринституциональные модели». Они, в свою очередь, могут включать в себя «трансинституциональные организации» – например, Международную конфедерацию европейских музеев (L'Internationale) и «транслокальные организации», действующие на местном уровне, но объединенные в международные сети, например – ruangrupa в Джакарте, CAMP в Мумбаи, 16 Beaver в Нью-Йорке, MayDay Rooms в Лондоне, Casco в Утрехте и другие [ibid].
Он утверждает, что эти институции «альтернативны» в силу того, что в своей работе они часто нацелены на инклюзивные социальные интеракции – например, на взаимодействие с уборщиками или беженцами, а также уделяют большое внимание альтернативным формам образования. Однако, в чем же тогда заключается их «альтернативность»? Социально ангажированное искусство, в определенный момент ставшее стандартом арт-мира, затронуло практически все институции современного искусства, включая крупнейшие, такие как MoMA, Tate Modern, Documenta. Тенденция не обошла стороной и Россию – в 2019 году Фонд V–A–C (одна из крупнейших институций современного искусства в России) провел цикл проектов «Расширение пространства. Из центра», в рамках которого были реализованы художественные события, задействовавшие самые разные социальные слои – работников рынков и торговых центров (среди которых множество мигрантов), студентов, жителей спальных районов Москвы. В этом смысле логические основания для того, чтобы интерпретировать их в качестве альтернативных, отсутствуют.
Конкретизация понятия «параинстуция» предполагает демонстрацию его независимости от языка социально ангажированного искусства и манифестарного художественного активизма, а также более глубокое включение термина в искусствоведческий оборот. Приставка «пара» (греч. πᾰρά) в переводе с греческого означает «возле, около, мимо, вне, наряду» – такие институции могут действительно не вписываться в традиционные представления об институциях в силу своей «транслокальности», «трансинституциональности» или «альтернативности». Однако мне кажется более логичным применять термин «параинституция» по отношению к сущностям, которые не только выходят за пределы административно-бюрократических консенсусов, подвергая сомнению устоявшиеся способы организации управленческой деятельности путем экспериментов с порядком принятия решений, создания конгломератов или международных сетевых структур, но и нарушают конвенциональные способы мыслить саму логику, пронизывающую топологию институционального базиса как публичного агента. Они сознательно размывают идентичности, демонстрируя, что объекты институционализации не имеют четких границ, а сами институции остаются хрупкими и изменчивыми.
Мы останавливаемся на люттикеновской трактовке параинституций так подробно ввиду того, что он один из немногих исследователей, использующих этот термин. При этом он далек от того, чтобы дать четкое определение параинституции. Вместо этого он последовательно перечисляет формы, которые параинституции или альтер-институции могут принимать. В его понимании этот термин охватывает достаточно широкий круг явлений, реализующихся посредством как разных организационно-правовых форм, так и лишенных юридического статуса, то есть действующих неформально. Важно то, что, по замечанию Люттикена, «параинституция создается художником или отождествляется с ним, хотя это не всегда так», а также и то, что «параинституции являются параинституциями в той мере, в которой сотрудничают с более традиционными институциями [Lütticken, 2015]. С моей точки зрения, статус параинституции не определяется исключительно тем, взаимодействует ли она с официальными институциями. Скорее, важна сама артикуляция подражания «институциональной идентичности». В этом смысле «сотрудничество» носит спекулятивный характер, преследуя определенные цели, самой важной из которых для нас является критическая модальность конституирования альтернативных/воображаемых «институциональных» проектов. Спекулятивность в данном случае подразумевает метафизическую логику осуществляемых актов, заинтересованность не столько в праксисе, сколько в самой идее.
Также важнейшей характеристикой параинституций, по Люттикену, является их педагогическая направленность, стремление к производству, накоплению и трансляции знания. В качестве примеров он приводит «Тихий университет» А. Огюта и академию для мигрантов от коллектива «We Are Here». Дальнейшие его рассуждения концентрируются вокруг рассмотрений параинституции как нового медиа, сопряженного с новыми политическими логиками (сама статья называется Social Media: Practices of (In)Visibility in Contemporary Art). Параинституции прочитываются Люттикеном как социальные медиа, предлагающие художникам параинституциональную субъектность. Она необходима, так как позволяет говорить с институциональным политикумом на его же языке.
На данном этапе анализа можно отметить, что дискурс параинституций в медиасфере развит слабо, так же как и различие между параинституциями и альтер-институциями. Упомянутые исследователи концентрируются по большей части на содержательном аспекте описываемых ими явлений, меня же больше интересует формальный – в той мере, в которой именно форма обуславливает диспозицию содержания, задает ему необходимую рамку. С. Люттикен и М. Баравалле, о котором пойдет речь в дальнейшем, ставят в один ряд альтер-институции (юридически оформленные организации) с параинституциями (порожденными воображением художников спекулятивными учреждениями, маскирующимися под институции) [Baravalle, 2018]. Упомянутое деление на «параинституции, трансинституции, альтеринституции» с моей точки зрения не является концепцией, принципиально важной для понимания реальных обстоятельств функционирования современного искусства. Я далек от намерения оспаривать или развивать его и обращаюсь к нему для понимания актуальной ситуации. Оно, несомненно, может быть удобным для описания определенных художественных контекстов, однако является лишь продуктом ситуативного публицистического дискурса. Параинституции же, в свою очередь, выходят за его пределы, последовательно закрепляясь в искусстве в качестве медиума наравне с виртуальными средами и промтами для нейронных сетей.
Именно параинституции являются центральным объектом анализа, к которому я подхожу с принципиально иных сторон, нежели исследователи, которые ввели соответствующий термин в оборот, не конкретизируя его значение. В этом смысле куда более созвучным моему пониманию параинституций оказалась краткая заметка коллективного авторства Н. Штернфельд, К. Весселса, Е. Агудио и Р. Вестрайхер на сайте веб-платформы documenta studies о реализованном в 2018 году в Хельсинки проекте «Музей невозможных форм» (Museum of Impossible Forms). Уже на уровне названия проект отражает важную для нас деталь параинституциональной логики, а именно ее потенциал как носителя сложных образов нереализуемого, утопичного, невозможного, невообразимого, непредставимого.
Авторы заметки подмечают, что художники все чаще стали представлять свои работы в качестве «музеев». Они предлагают называть эти акты присвоения институционального «парамузеями»: «они используют ресурсы институции, поскольку одновременно являются как частью этой институции, так и частью другого порядка, который, возможно, только начинает зарождаться» [Штернфельд и др., 2018].
Эфемерность этого «другого порядка» проявляет себя сразу же, как мы начинаем пытаться анализировать мотивы художников, избравших соответствующий особый способ художественного говорения. Логично предположить, что существуют определенные проблемы, которые художник не может решить, используя при этом свою индивидуальную идентичность. Эти проблемы требуют близкого контакта с институцией – но уже не столько критического, как это было на протяжении XX века, сколько посткритического. Они требуют отношений, «не противостоящих институции, но и не полностью определяемых ею» [там же]. Речь идет о том, чтобы примерить на себя институциональную маску. Проще говоря – как бы стать институцией. Художественный метод В. Захарова, во многом обусловленный своеобразием советской действительности, работал на реализацию этой максимы, причем без создания параинституции как таковой. При этом «использование ресурсов институции» не обязательно означает финансовую зависимость от институции, а может быть истолковано исключительно с точки зрения дискурсивной связи.
Авторы заметки продолжают конкретизировать понимание параинституции: «параинституция не является антиинституцией. Она не отрекается от институции, а, скорее, отказывается от отказа (который мир мог бы ей приписать)» [там же].
При помощи параинституций художники решают задачи, которые по тем или иным причинам не могут или не хотят решать посредством своей индивидуальной художественной идентичности. Параинституция может не обладать формами материального выражения, копируя лишь определенные перформативные аспекты институционального дискурса в качестве медиума. В контексте нашего исследования важнейшим аспектом параинституциональных художественных высказываний являются их потенциальные институционально-критические коннотации, конституирующиеся посредством альтернативных/воображаемых проектов внутри институционального нарратива.
Несмотря на то, что примеры схожих с параинституциями явлений можно найти и до появления концептуального искусства, именно артикуляции институционально-критического дискурса позволяют обнаружить в их существовании актуальное измерение, которое, в свою очередь, не лишено слабых сторон: параинституции всецело зависят от создающих их художников, их материальной стабильности и художественной последовательности. Однако и сама «критическая традиция подвергается сомнению из-за ее негативного или даже деконструктивного характера» [Керимов, 2023]. Это, наряду со спецификой параинституций, позволяет нам говорить о них как о явлении, реализующимся на территории посткритики.
«Посткритический поворот» в гуманитарных науках включает в себя некоторые идеи феноменологии, акторно-сетевой теории, объектно-ориентированной онтологии, теории аффектов. Он постулирует позитивность, аффективную связь с анализируемым объектом, его встроенность в актуальную связь человеческих и нечеловеческих акторов. Термин «post-critical» ввел в 1950-х годах философ М. Полани, обозначавший им попытку вырваться за пределы критической традиции, не отвергая ее, но дополняя более целостным, интуитивным и личностным пониманием знания. Однако устойчивое место в гуманитарных науках, особенно в литературоведении, он обрел благодаря работам Р. Фельски, после чего перешел в культурные исследования и другие области знания. Важным является тот факт, что посткритический дискурс затруднительно вписать в рамки определенных методологий. Можно сказать, что посткритика в определенном смысле «против метода» – она находится в оппозиции к методу как таковому. Посткритика – это «не-метод», «пространство концептуальной, методологической и мировоззренческой переориентации», набор децентрализованных междисциплинарных эпистемологических стратегий, отличающихся «интересом к изучению ранее игнорируемых элементов интерпретации – в частности, личностных, эмоциональных аспектов» [Пауль, 2022]. Посткритика не редуцируется до эссенциалистских идеологических клише, но находится в постоянном движении между эстетическим, этическим и политическим. Вместо того чтобы представлять реальность, она выполняет перформативную работу по созданию своей собственной [там же].
История термина свидетельствует о том, что в разных сферах его значения могли отличаться. По мнению Пауля, именно в его расплывчатости заключается особая сила посткритики, которая способна поддержать возникающие идеи и едва уловимые возможности [там же]. Он, вслед за Фельски, рассматривает ее в качестве внетеоретического модуса взаимодействия с широким кругом культурных артефактов. Более уместно в этом контексте говорить об особом взгляде на исследуемые объекты, не связанном с критической традицией, идущей от нареченных П. Рикером «мастерами подозрения» Маркса, Ницше и Фрейда [Рикер, 1970]. Для нас особенно важной является связь посткритики с воображением, которое, наряду с надеждой и идеализмом, выделяет К. Кастилья в качестве основной ценности посткритического чтения [Кастилья, 2017].
Некоторые исследователи склонны видеть в параинституциональных тенденциях стремление художников к производству субъектности через аффект и к реартикуляции власти, которая традиционно связывается с понятием института [Roussou, 2019]. Властные отношения тем самым подвергаются художниками операции, посредством которой происходит спекулятивный пересмотр значений – это и является причиной последующего аффективного заряда. В теории аффектов, наряду с акторно-сетевой теорией, новым материализмом, теорией сборки, объектно-ориентированной онтологией и находит свое обоснование посткритическая критика [Керимов, 2023].
Профессиональное сообщество редко рассматривает параинституции как институционально-критические явления. Их посткритическая направленность часто воспринимается как пораженчество и эскапизм – капитуляция перед аттракционной логикой неолиберальной культуры. В случаях, когда параинституция не обладает утопическим характером и не опирается на воображение как метод художественной практики, использование институции как медиума может остаться вне фокуса внимания.
Все вышесказанное позволяет нам, наконец, сформулировать определение параинституции. Параинституция – это конструируемая художниками перформативная институция, функционирующая в рамках одного или нескольких уровней реальности. В первую очередь, в поле искусства, а также на территориях активизма, педагогики или исследовательской деятельности. Она может мимикрировать под реальные институции, существуя в гибридной зоне между вымыслом и действительностью или выполнять институциональные функции без формального признания. Перформативность параинституции заключается в том, что для ее конституирования достаточно целенаправленного волевого акта художника, воплощенного в речи. В отличие от традиционных институций, параинституции не обязательно обладают устойчивой структурой, юридическим статусом или физическим пространством, но могут работать в качестве институции для создания альтернативных нарративов и критики status quo.
Манифестарная и латентная стратегии российской институциональной критики
Институциональная критика – это влиятельное направление в современном концептуальном искусстве, возникшее в конце 1960-х годов и изначально основанное на критике музеев, галерей, частных коллекций и других институтов искусства посредством самих актов художественного творчества. Термин, впервые предложенный британским концептуалистом М. Рамсденом в 1975 году, прижился и активно тиражируется в наши дни [Alberro, Stimson, 2011]. Художники, работавшие в этом направлении, использовали обширный ряд стратегий для критики скрытых идеологий, иерархических властных структур и непрозрачных сетей капитала, лежащих в основе распространения, демонстрации и обсуждения произведений искусства.
Более чем за полвека своего существования институциональная критика, согласно устоявшемуся подходу к ее периодизации, породила несколько сменивших друг друга волн. Третья волна, более известная в качестве «нового институционализма», существующего посредством «альтернативных» институций нового типа и иных экспериментов с организационными структурами искусства, ознаменовала постепенный поворот к нынешней ситуации, в которой «институция» все чаще рассматривается не только в своем привычном значении, но и приобретает новые. Мы полагаем, что институция в контексте нового институционализма и после него обретает новые значения и может быть интерпретирована как медиум.
Как известно, каноническая институциональная критика первых двух волн воспроизводила риторику, для которой характерны скептицизм, негативность, параноидальность, стремление к разоблачительству. Эта стратегия неизменно приводила к институциональному присвоению достижений художников-критиков, что не помешало появиться «новым», как бы чутким к критике институциям, ознаменовавшим начало нового институционализма. Несмотря на это, все чаще актуализируется консенсус касательно институциональной природы самой субъектности художника, невозможности практиковать старые сценарии, не критикуя транслируемые неолиберальным эстеблишментом фигуры художественной среды. Многие из разделявших эту точку зрения не приняли новый институционализм, считая, что любая подобная институция автоматически компрометируется собственной природой, характеризующейся «иллюзорной демократичностью» [Chukhrov, 2014] (также см. круглый стол Лаборатории художественной критики «Критика нового институционализма» на YouTube). Музей канонизировал, возвел в ранг бессмертных классиков жанра тех, кто критиковал его перформативную власть, тем самым как бы обесценив их старания.
В этой связи логично предположить, что разочарование художников в институциональной критике стало причиной сомнения в продуктивности критики как таковой. Традиционный взгляд институционально-критического художника на институцию отличается своей односторонностью, предвзятостью, желанием низвергнуть ее как безусловное зло, ответственное за осквернение искусства. Утомившись освоением институциями критических высказываний любого уровня концептуальной сложности, некоторые художники ответили аналогичным образом – присвоили институцию как идею, превратив ее сначала в текст, а позже – в медиум. Для них институция больше не является безусловным антагонистом, теперь она – образ мысли, который нужно понять и трансформировать, превратив конфронтацию в интеллектуальный спор об истории, этике и легитимности говорения от лица искусства. Спор, реализующийся не в разоблачении и паранойе, но с целью созидания, объединения, создания связей.
Размышляя о производственном искусстве, одном из течений левого авангарда 20-х годов в СССР, И. Чубаров говорит о том, что теоретики производственничества «понимали, что в современных им промышленных условиях производственное искусство является больше проектом, нежели реальностью, неизбежно приобретая форму лабораторных опытов и политической агитации» [Чубаров, 2014, с. 176]. Часто параинституции, как мы увидим в дальнейшем, таким же образом становятся проектами лабораторного толка, создаваемыми с целью утверждения альтернативных сценариев бытия искусства, вторжения в ткань институциональной конъюнктуры.
В своем докладе «Проблемы современной эстетики», прочитанном в Государственной академии художественных наук (ГАХН) в 1922, Г. Шпет предлагает концепцию «отрешенного бытия» для описания сути эстетического предмета [Шпет, 1923]. Несмотря на то, что, как и всякое проявление концептуализма, параинституция и производимые ею объекты искусства или художественные акты далеки от интересов традиционной эстетики, эта концепция могла явиться прообразом параинституциональных интуиций российских художников последующих эпох, для которых характерен «особый вид сознания – воображающее» [Чубаров, 2014, с. 310]. Чубаров пишет о понимании Шпетом этого «воображающего, фантазийного» сознания: «подражание здесь означало не копирование действительности, а, скорее, творение новой действительности, согласно некоему идеалу или смыслу, раскрывающемуся в самом произведении искусства как его чувственном выражении» [там же]. Спустя четверть века А. Мальро предлагает влиятельную концепцию воображаемого музея – хранящего образы, существующие в сознании, вне обусловленных классовым сознанием эстетических диспозиций, времени и пространства.
В контексте исследования предполагается, что параинституция представляет собой подражание институциональной агентности, таким характеристикам ее идентичности и субъектности, как повышенная серьезность производимых ею нарративов, структурированность и системность деятельности, владение особыми правами на действительность, которые были делегированы ей некой высшей властью. Кроме всего прочего, дискуссии в ГАХН о природе искусства и его роли в обществе, участниками которых наравне с Г. Шпетом были также Б. Арватов, Н. Тарабукин, Д. Аркин, можно наряду с идеями У. Морриса и Д. Рескина рассматривать в качестве дискурсивного поля, предшествующего институционально-критической проблематике.
Для Шпета важной являлась возможность восприятия произведений искусства в качестве социальных знаков исторической ситуации, неизбежно характеризующих при этом коллективное бессознательное субъектов этого контекста. Соответствующая «альтернативная структура символического» была связана с коллективно производимыми левым авангардом отношениями, рождающими мечты о невозможных параллельных сценариях [Шпет, 1923]. Раскрывая свое «отрешенное бытие», он вспоминает близкие по смыслу идеи предшественников: «допущение» А. Майнонга, «игру» К. Грооса, «сознательную иллюзию» К. Ланге, «абстракцию» В. Воррингера и др. Однако ни одна из них его не удовлетворяет. Шпет поясняет: «словом „отрешенное“ я хочу подчеркнуть тенденцию отхода от прагматической действительности и „идеализации“ ее» [там же]. Так и параинституция предлагает «отрешенный» взгляд и отклоняющуюся (греч. πᾰρά «возле, около, мимо, вне, наряду») субъектность. «Подражание есть выражение», уточняет он, вновь открывая нам дорогу для разговора об институции как о медиуме, который художник в спекулятивном режиме использует для своих нужд [там же].
Институция эмерджентна, она не может быть редуцирована к составляющим ее субъектам. Идеологическая нагруженность институционального всегда будет превосходить сцепку индивидуальных репрезентаций. В этих условиях параинституциональная идентичность для художников и активистов может служить некоего рода маской. Она не прячет художников и не помогает им скрыться от ответственности, а свидетельствует о желании карнавализировать институциональную догматику, попытаться разыграть с ней субверсивную «игру в бисер», в которой невозможно победить. М. Баравалле говорит о «менеджменте как искусстве», подразумевая стремление художников умножать сущности, которые могут быть администрируемы, или, говоря языком М. Фуко, управляемы (governmentable) [Baravalle, 2018]. Это подтвердят, в том числе, проекты и слова А. Жиляева, о которых мы будем говорить в заключительной части исследования. Дискуссионным является вопрос – всегда ли художники подражают институциям с целью трансгрессивного расшатывания соответствующего авторитарного дискурса, или же мы можем столкнуться также и с ситуациями, в которых художник, сам того не осознавая, заимствует у институционального референта не только его созидательную практичность, но и спектр репрезентаций, соответствующий гегемонической логике. Е. Деготь интерпретирует схожие явления как желание художников становиться «режиссёрами» [Degot, 2015].
Масштабное рассмотрение проблемы институциональной критики в России не входит в задачи данной статьи. Тем не менее необходимы некоторые уточнения для введения читателя в соответствующий контекст. Ввиду недостаточной артикуляции нарратива об институциональной критике в отечественном искусствоведении мы предлагаем собственный подход к обозначенной проблеме. Мы выделяем две глобальные стратегии, присущие художественным работам российских художников в жанре институциональной критики. Первая из них, которую мы называем манифестарной, реализуется посредством конвенциональных для институциональной критики художественных решений, отличающихся прямолинейностью и свойственной традиционной критике «герменевтике подозрения» (см., например, акцию А. Кузькина на выставке премии «Инновация» в 2013 году; картину «Нравится этот рисунок?» П. Пепперштейна, 2005; перформанс «Гей-карусель: детокс» А. Баевер, Б. Кашапова, Д. Федорова и О. Устинова, 2015). Манифестарность этого искусства проявляется в однозначности утверждаемой им логики: институции – зло, искусство скомпрометировано капиталом и насилием, авторитеты не заслуживают доверия.
Вторая стратегия, которую мы называем латентной, артикулируется двумя способами: во-первых, путем имплицитной субверсии институциональной действительности (часто на ее же территории), во-вторых, через аффективное смещение элементов дискурса об институциональном. Если манифестарная стратегия вписывается в привычные аспекты «герменевтики подозрения», то латентная, скорее, действует в посткритическом векторе «герменевтики доверия», предлагая расширенную эпистемологию. Внимание художников к этой стратегии созвучно процессам, происходящим с критической практикой в гуманитарных науках с наступлением XXI века. «Посткритический поворот» в очередной раз проявил недостатки концепции объективной истины, а, следовательно, и традиционной критики, зацикленной на имманентном релятивизме.
Б. Латур в эссе «Почему критика выдохлась?» задается вопросом: «Можно ли превратить этот критический пафос в этос в отношении тех, кто прибавляет к фактам реальность, а не заменяет ее?» [Латур, 2023]. В рассматриваемой нами ситуации художники, практикующие манифестарную стратегию, стремятся к радикальному перелому и замене реальности со всеми ее недостатками на новую – более справедливую; а практикующие латентную прибавляют свои версии реальности к наличествующим фактам действительности, возможность и целесообразность интенсивного вмешательства в работу которых они ставят под вопрос. Латентная стратегия бережно рассматривает институциональное как объект для анализа, исключая из своего взгляда презумпцию виновности и отдавая предпочтение аффекту. При этом «аффект рассматривается как способ более тесного, интимного взаимодействия с чувственной непосредственностью, тональностью и избыточностью объектов исследования», а искомый объект анализа, как когда-то было с самим искусством, оказывается нестабильным агентом, склонным к выходу из-под контроля [Керимов, 2023; Аронсон, 2014]. Латентную стратегию, немного пофантазировав, можно сравнить со стокгольмским синдромом: институция, которая в глазах критически настроенных художников, десятилетиями держала искусство в заложниках, тем самым профанируя его, перестала быть презираемой и гонимой. Отныне институциональное – это инвариант, незыблемое, которое, однако, перепрограммируется, превращаясь в медиум. Ведь если институциональное – это объект для анализа в посткритическом смысле, то «объект исследования становится явлением эстетического порядка» [Аронсон, 2014].
Институция как медиум
Основным способом реализации латентной стратегии институциональной критики в российском современном искусстве, на наш взгляд, являются параинституции. Следующие примеры проиллюстрируют нашу логику. Группа «Что делать?» была ответственна за появление на российском художественном ландшафте как минимум двух параинституций – «Школы вовлеченного искусства» и «ДК Розы». Сама группа была создана в 2001 году вдохновленными философией «новых левых» петербуржскими художниками О. Егоровой и Д. Виленским. Впоследствии к группе примкнули иные участники, а сама она трансформировалась в «творческую платформу».
Появившаяся в 2013 «Школа вовлеченного искусства» представляет собой близкий к люттикеновскому пониманию параинституции альтернативный педагогический проект, тогда как последовавшее за ним появление в Санкт-Петербурге «ДК Розы» было вдохновлено советскими домами культуры и отражало характерную для того времени установку на партиципаторность. Эти параинституциональные проекты продолжили институционально-критическую линию в творчестве группы, которая до этого реализовывалась манифестарно (например, в посвященной политической роли музея и социально ангажированного искусства работе 2011 года «Museum Songspiel: The Netherlands 20XX», реализованной в амстердамском Музее ван Аббе).
«Школа вовлеченного искусства» являлась неформальным параинституциональным агентом, движущимся «наперекор существующему ходу вещей» [Виленский, 2013]. Финансируемая немецким левым фондом им. Розы Люксембург, Школа практиковала разработанную П. Фрейре «педагогику угнетенных», действующую по принципам горизонтальности и активного участия обучающихся в процессе создания знания. Эта параинституция была институционально-критической не только в силу своей природы, но и ввиду своей активной деятельности, радикально противопоставляемой академическому художественному образованию. В этом смысле прямолинейность художественного высказывания, реализуемого в процессе существования Школы, может свидетельствовать о ее практически пограничном положении между манифестарной и латентной стратегиями.
Одна из координаторов «ДК Розы» А. Вепрева не ошиблась, когда сказала, что «идея переосмысления “Дома культуры” (ДК) является актуальной концепцией для постсоветского российского общества XXI века» [Вепрева, 2019]. Эти тенденции достаточно сильны в творчестве А. Жиляева, к ним близки некоторые работы К. Глущенко. Кроме того, в конце 2021 года в Москве открылся Дом культуры «ГЭС-2», переосмысляющий концепцию русских народных домов конца XIX века. Проект «ДК Розы» наследовал советским домам культуры, заменившим русские народные дома. Он был одной из немногих параинституций, которые имели постоянную локализацию в городском пространстве – в здании на Большой Разночинной улице. В нем некоторое время располагалась и тесно связанная с ДК «Школа вовлеченного искусства».
Партиципаторная направленность проекта, главной целью которого было вовлечение людей в культурные процессы посредством новой коллективности, не лишала его институционально-критического базиса, обусловленного убежденностью в том, что аналогичные практики канонических институций неизбежно транслируют неолиберальую идеологию. В противовес ей, в ДК могла бы реализоваться постулируемая создателями проекта «контрпубличная сфера» (термин позаимствован художниками у Н. Фрэзер), то есть «пролетарская, уличная, укорененная в опыте публичность» [Вахштайн, Вайзер, 2016]. В этом контексте параинституция оказывается эпистемологической моделью, отвечающей запросам художников на онтологическом уровне. Однако, несмотря на свой освободительный потенциал, параинституциональная идентичность остается идентичностью со всеми вытекающими из этого последствиями. Бывший резидент «ДК Розы» Р. Осминкин подмечает: «нам разрешено играть в детской песочнице идентичностей, но как только мы выходим за эти рамки, все наши “я” рушатся в жерновах фишеровского “капиталистического реализма”, который сводит все к рыночному ассортименту аффектов и удовольствий» [Осминкин, 2019].
Другая параинституция, «Агентство сингулярных инициатив» (АСИ), была создана в 2014 году московскими художниками А. Титовой и С. Шурипой. АСИ позиционируют себя как организацию исследовательской направленности – при помощи собственных эпистемологических методологий Агентство изучает действительность и артикулирует результаты своих экспериментов в виде художественных и образовательных проектов («Observatorium», 2014, параллельная программа Manifesta 10; «Парк „Дистопия“», 2015, специальный проект 6-й Московской биеннале современного искусства; «Темная материя: политическая философия мазка, социальная история страха», 2016, Московский музей современного искусства). При этом интерес Агентства к искусству прошлого, архивации и документации художественной практики как медиума роднит его не только с упомянутым выше В. Захаровым, но и с классиком европейской институциональной критики М. Бротарсом.
Под словом «агентство» традиционно понимается организация, которая может быть как частной, так и государственной. Частные агентства, как правило, предоставляют услуги широкого спектра – от почтовых до туристических. Государственные же в структуре устройства РФ являются разновидностью федерального органа исполнительной власти. Они перечисляются в Указе Президента РФ от 11.05.2024 N 326 (ред. от 17.06.2024) «О структуре федеральных органов исполнительной власти», их деятельность регулируется Федеральными законами и подзаконными актами. И те, и другие немыслимы без работы с документами. Так и для АСИ, избравших для себя именно этот вектор параинституциональной обусловленности, сбор документов является определяющей характеристикой художественной практики: «Для нас документальность – это подступы к невидимому … Документальное становится частью системы коммуникаций, одним из режимов воображаемого» [Агентство Сингулярных Исследований, 2016]. Вспомним Люттикена – невидимость свидетельствует об ограничениях, а документам проще взаимодействовать с субъектами власти – институциями, чем с людьми, особенно художниками. Параинституциональная форма практики художников соседствует с традиционным для институциональной критики интересом к идеологии и политике в широком смысле.
АСИ отдают предпочтение работе с семиотическими системами, альтернативной историей и моделированием ситуаций. Их практика находится на стыке институциональной критики с «искусством, основанном на исследовании» (research-based art). Одна из их работ называется «Обращение инициативной группы», другая – «Апокалиптологический конгресс». Намеренная апелляция к официальным формам публичности и языку бюрократии укрепляет параинституциональную идентичность группы, которая часто занимается курированием или сокурированием собственных выставочных проектов. Параинституция может успешно администрировать свою деятельность без участия куратора как отдельной, самостоятельной, внешней фигуры. Художники, регулирующие ее работу, часто бывают в одном лице и кураторами, и теоретиками, и менеджерами. При этом стремление АСИ к расширению путем создания региональных отделений соответствует отмечаемой Люттикеном установке некоторых параинституций на транслокальность (речь об этом шла в посте Facebook-сообщества ASI Projects от 15 февраля 2016 года, доступ к которому есть только посредством пролистывания всей страницы, ссылка не работает)2.
Параинституциональная идентичность этих художников, которых В. Дьяконов назвал «заправскими психоаналитиками», как бы легитимирует их постоянные герменевтические отсылки к фигуре архива и музею как знаку [Дьяконов, 2016]. Выставка «Взаимодействия» в Московском Музее Современного Искусства (ММСИ) принадлежала к типу проектов, в которых художникам предлагается переосмыслить коллекцию музея. Обращение АСИ к работам овеянного мифами и крайне противоречиво воспринимаемого «левого МОСХа» не случайно. Художники «левого МОСХа» не вписывались в соцреалистический канон, но и не принадлежали к радикальному неофициальному искусству. Они балансировали между официальным и независимым творчеством, часто обращаясь к формальным экспериментам, но избегая прямой конфронтации [Тихомирова, 2024]. Их затруднительное положение в символической структуре советского искусства, принципиальное «выпадание» из дихотомии «институциональное/внеинституциональное» удовлетворяло интерес АСИ к условностям любых классификаций, брешам в «малоизвестных свойствах времени» [Агентство Сингулярных Исследований, 2016]. Как считает Н. Эник, сингулярность и своеобразие – господствующие ценности режима искусства, а значит, сингулярные инициативы должны быть исследованы при помощи соразмерных им методологий [Эник, 2014].
Закончим наш краткий обзор российских параинституций тремя проектами, связанными с именем А. Жиляева, художника, для которого интерес к институциям как таковым стал основой творческих исканий. Речь о «Музее пролетарской культуры», «Центре экспериментальной музеологии» и «Институте овладения временем».
Выставочный проект «Музей пролетарской культуры. Индустриализация богемы» был реализован Жиляевым в 2012 году в рамках параллельной программы Международной биеннале молодого искусства в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Художник обратился к раннесоветскому экспериментальному выставочному проекту искусствоведа и куратора А. Федорова-Давыдова «Опытная комплексная марксистская экспозиция», в рамках которого история искусства как бы конструировалась, исходя из субъектности рабочего класса. Следуя за Федоровым-Давыдовым, Жиляев, реализуя свой собственный парамузей, интегрировал в него объекты, созданные рабочими: вырезки из журналов, спички, рекламу, календари, плакаты, фотографии. Здесь параинституция вновь выступает как хроникер, регистратор, обладающий несоизмеримо большим объемом прав на документацию действительности, чем художник сам по себе. Художник, непреодолимо принадлежащий контексту, от которого параинституциональная идентичность спекулятивно его избавляет. Художник отказывается от критики существующего музея, вместо этого воображая новый, но отсылающий к прошлому, в котором задолго до «нового институционализма» пыталась обозначить себя «авангардная музеология» (в 2015 году в V–A–C Press вышел одноименный сборник текстов под редакцией А. Жиляева). Для него музей – это «прежде всего медиум, позволяющий ему деконструировать институциональную политику как таковую» [Chekhonadskih, 2012, p. 20].
Поэтика воображаемого проявит себя и в другой параинституции художника – «Институте овладения временем», в котором концептуалист-теоретик Жиляев выступает в качестве «соорганизатора». Институт обладает обширным мифологическим универсумом, вдохновленным научной фантастикой и раннесоветскими музеологическими экспериментами – его сотрудники инсталлируют в разных частях вселенной многочисленные версии истории искусства, произведенные космическим кораблем TENET. Персональная выставка Жиляева «Будни распознавателя образов», прошедшая в 2021 году в ММСИ, была полностью посвящена деятельности Института. Она представляла собой множество залов с объектами, конструирующими альтернативную историю искусства, воспроизведенную машинным интеллектом на основе собранных данных о Земле. Это, по выражению самого Жиляева, «игра в канон», которая неизбежно влечет за собой внимание к потенциалу институции в качестве медиума [Жиляев, 2021].
В жиляевской выставке искусство как бы осмысляет само себя посредством двух выдуманных агентностей – Института и космического корабля-палиндрома TENET. Так и многие другие его проекты трансформируют наши представления об институции, институциональном и институционализируемом (например, «Педагогическая поэма. Архив будущего музея истории» 2014 г.). Он выступает как акселерационист, прямо заявляя об этом: «я человек институциональный и выступаю за предельное усиление институционализации, но экспериментальной институционализации, которая должна привести к более неожиданным результатам» [там же].
Институт овладения времени – институция спекулятивная, однако существует она реально, утверждает Жиляев [там же]. Он продолжает: «потенциальная художественная трансгрессия сегодня должна осуществлятся самой институцией» [там же]. Не дожидаясь активности со стороны традиционных институций, Жиляев трансгрессивно воспроизводит институциональные логики во множестве своих проектов. При этом в зале, посвященном деятельности Института, можно проследить, что Институт как бы находится в мысленном интеллектуальном диалоге с Г. Джорджевичем, бывшим художником в Югославии до ее распада, а теперь называющим себя «техническим ассистентом» Музея американского искусства в Берлине, еще одной параинституции. Как и в случае с АСИ, роль художника в работе с параинституцией размывается, он становится сокуратором собственного параинституционального бытования, завязанного, как подмечал Н. Куллинан, на институциональной критике и музее как медиуме [Cullinan, 2012].
Сотрудничество Жиляева и Джорджевича воплотилось также и в другом проекте российского художника – написанной Джорджевичем книге «Вальтер Беньямин. Новые сочинения», в которую вошли «девять эссе Вальтера Беньямина, появившиеся через несколько десятилетий после его трагической гибели» (согласно анонимной публикации на сайте издательства, ссылку можно найти в списке источников). Книга вышла в совместной серии издательства V–A–C Press и «Центра экспериментальной музеологии». Центр – это параинституция, существующая на базе реальной институции – Фонда V–A–C, и созданная Жиляевым совместно с сотрудниками Фонда. Помимо собственной книжной серии, Центр предоставлял онлайн-платформу для российских и зарубежных исследователей, заинтересованных в изучении музеев – реальных или воображаемых. Мистификация с книгой «ожившего Беньямина» представляется не только смелым институциональным экспериментом, но и риторическим комментарием к издательской политике, интеллектуальной собственности, «смерти автора» и природе искусства. Сам Жиляев говорит: «мой медиум – музей и выставка, которые в принципе не предполагают аутентичного художественного жеста … мое „я“ в качестве художника в традиционном смысле слова стерто» [Жиляев, 2021].
В российском контексте параинституции не являются сугубо столичным явлением. Среди проектов, выходящих за пределы Москвы и Санкт-Петербурга: Художественный кооператив «Бусинки» в Краснодаре, Институт по исследованию всего на свете (НИИ ВСЕГО) в Перми, Владивостокская школа современного искусства, Галерея ИМХО в Саратове, Галерея одной работы и Ледовая биеннале в Самаре. Параинституции в этих регионах не менее важная составляющая локального художественного контекста, однако ввиду ограниченного объема исследования, уделить им должное внимание затруднительно.
Заключение
Институциональная критика по-прежнему остается важнейшим параметром современного искусства, несмотря на все сложности, преследовавшие ее на протяжении полувека. Параинституции нельзя назвать российской новацией, они распространены по всему миру. Их четкая генеалогия, в том числе ввиду методологической асинхронности, является затруднительным полем для анализа. Однако именно в России параинституции стали как уникальным художественным средством и специфическим вневременным языком, так и одной из стратегий институциональной критики. Мы перечислили лишь некоторые из существующих или существовавших в России параинституций, которые, на наш взгляд, характернее всего свидетельствуют о том, что институциональная критика в стране не только есть, но и подразумевает историческую последовательность – она говорит о проблемах сегодняшнего дня, являясь при этом метакомментарием к прошлым авангардам.
Все чаще на первый план выходят «сложные, неразличимые на территории искусства агентности», что связано с размытием границ между художником и куратором, постмедиальностью и сложностями в определении институции [там же]. Этой статьей мы лишь наметили необходимый контур для дальнейших дискуссий о сущности, роли и месте параинституций в современном искусстве России. Говоря о них, можно воспользоваться позаимствованной П. Гиленом у М. Серто парадоксальной концепцией «бормотания художественного множества» [Гилен, 2015]. Один из аспектов бормотания – это обещание, потенциальность. Так параинституция обещает самой себе обязательно реализоваться, стать институцией. Однако не при помощи регистрации в реестре юридических лиц, а посредством смещения самого институционального нарратива в контексте искусства, пересмотра роли дискурса о подлинном внутри него, реартикуляции институциональной критики с позиций ее посткритического осмысления вопреки обвинениям в эскапизме и пораженчестве.
Мы предлагаем лишь один вариант для исследований российской институциональной критики, которая со временем неизбежно обретет заслуженное внимание. Как было отмечено, российские параинституции имеют исторические и политические особенности, которые отличают их от западных моделей. Как и любая дихотомия, противопоставление манифестарной и латентной стратегии не лишено определенных недостатков. Параинституция может быть предельно открытой в своих притязаниях на реконфигурацию действительности, что демонстрирует в том числе группа «Что делать?». Тем не менее мы полагаем, что современный локальный контекст призывает именно к такой логике – вера в манифестарную realpolitik подорвана как общей проблемностью критического жанра, так и ограниченностью прекарного быта художника. В это же время параинституции и другие медиумы, обладающие имплицитным преобразовательным и аффективным зарядами, часто становятся терапией и для художника-куратора, и для исследователя, и для зрителя. При этом абсолютно понятна потенциальная недоброжелательность в их адрес – за сложностью и интерконтекстуальным характером может скрываться не только необходимость новых, посткритических реальностей, но и замкнутая на самой себе репрезентация оцепенения художественной среды и увядание пафоса ярких концептуальных жестов.
ИСТОЧНИКИ
1. Беньямин В. Новые сочинения // Фонд V–A–C [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://V–A–C.org/publishing/new-works (дата обращения: 12.11.2024).
2. Вепрева А., Виленский Д., Осминкин Р., Столет Й. A Discussion with Residents of Rosa House of Culture // FIELD – A Journal of Socially Engaged Criticism [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://field-journal.com/issue-12-13/near-east-russia/a-discussion-with-residents-of-rosa-house-of-culture/ (дата обращения: 25.10.2024).
3. Гройс Б. Захаров Вадим: Об участнике. Обещание автономии // Московский музей современного искусства [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://catalog.mmoma.ru/veru/portfolio/zaharov-groyce.htm (дата обращения: 22.10.2024).
4. Дом культуры // Дом культуры «ГЭС-2» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ges-2.org/about-house-of-culture (дата обращения: 01.11.2024).
5. Дьяконов В. Художник как знаток. «Взаимодействия» в Московском музее современного искусства // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3042326 (дата обращения: 03.11.2024).
6. Жиляев А. // Артгид [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://artguide.com/people/3152 (дата обращения: 12.11.2024).
7. «На руинах воображаемых историй»: интервью с Арсением Жиляевым // SPECTATE [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spectate.ru/arseny-zhilyaev-monotony/ (дата обращения: 18.11.2024).
8. Расширение пространства. Из центра // V–A–C.org [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://V–A–C.org/projects/expanding-space (дата обращения: 15.10.2024).
9. Сеятель времени, пятиконечный музей, негативная ностальгия. Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов» // Colta.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.colta.ru/articles/art/27856-arseniy-zhilyaev-keti-chuhrov-beseda-vystavka-budni-raspoznavatelya-obrazov (дата обращения: 18.11.2024).
10. Тихомирова Ю. Laterna magica, или Машина зрения и гиперреальность левого МОСХа // Артгид [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://artguide.com/posts/2798?page=2 (дата обращения: 09.11.2024).
11. Baravalle M. Art Populism and the Alter-Institutional Turn // e-flux [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.e-flux.com/journal/89/182464/art-populism-and-the-alter-institutional-turn/ (дата обращения: 21.10.2024).
12. Chukhrov K. On the False Democracy of Contemporary Art // e-flux [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.e-flux.com/journal/57/60430/on-the-false-democracy-of-contemporary-art/ (дата обращения: 22.10.2024).
13. Lütticken S. Social Media: Practices of (In)Visibility in Contemporary Art // jonasstaal.nl, 22.01.19. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1621/2015-09-23_sven_lutticken-_social_media-_practices_of_in_visibility_in_contemporary_art_afterall.pdf (дата обращения: 15.10.2024).
14.Para-Institutions. Beside and Beyond the Museum, the University. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://documenta-studien.de/para-institutions-pannel-2018 (дата обращения: 22.10.2024).
ЛИТЕРАТУРА
1. Аронсон О.В. Аффективная экономика искусства // Труды ИПСИ. Том II. Олег Аронсон, Елена Петровская. Что остается от искусства. – Москва: Институт проблем современного искусства, 2014. – C. 76-117.
2. Вахштайн В.С., Вайзер Т.В. Сообщества и коммуникация: трансформация социальных механизмов формирования солидарности. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016.
3. Виленский Д. О необходимости школы // Художественный журнал. 2013. №92. C. 97-99.
4. Гилен П. Бормотание художественного множества. – Москва: Ad Marginem, 2015.
5. Керимов Т.Х. Критика и посткритика в гуманитарных науках: смещение оппозиции // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 490. С. 81-88.
6. Керимов Т.Х. Упорство критики и тупики посткритики // Philosophy Journal of the Higher School of Economics. 2023. № 7(2). C. 60-85.
7. Латур Б. Почему критика выдохлась? От фактов к вопросам, вызывающим озабоченность // Логос. 2023. Т. 33. № 5. С. 29-64.
8. Максимов Д. Агентство сингулярных исследований. Далекое настоящее // Художественный журнал. 2016. №99. С. 80-89.
9. Чубаров И.М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда. – Москва: Высшая Школа Экономики, 2014.
10. Шпет Г.Г. Проблемы современной эстетики // Российская Академия Художественных Наук. Оттиск из журнала «Искусство». – Москва, 1923. №1. С. 41-78.
11. Эник Н. Слава Ван Гога: Опыт антропологии восхищения. – Москва: V–A–C Press, 2014.
12. Alberro A., Stimson B. (Eds.). Institutional critique: An anthology of artists’ writings. – Cambridge: MIT Press, 2011.
13. Buchloh B. Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions // October. 1990. Vol. 55. P. 105-143.
14. Castiglia C. Hope for Critique? // Critique and Postcritique. Duke University Press, 2017. – P. 211-229.
15. Chekhonadskih M. Museum of Proletarian Culture. The Industrialization of Bohemia // Arseniy Zhilyaev. Museum of Proletarian Culture. The Industrialization of Bohemia. – Venezia: Marsilio, 2013. – P. 17-23.
16. Cullinan N. Arseniy Zhilyaev. The Museum as Medium // Arseniy Zhilyaev. Museum of Proletarian Culture. The Industrialization of Bohemia. – Venezia: Marsilio, 2013. – P. 10-13.
17. Degot E. The Artist as Director: ‘Artist Organisations International’ and its Contradictions // Afterall. 2015. Vol. 40. P. 20-27.
18. Paul H. J. The postcritical turn: unravelling the meaning of ‘post’ and ‘turn’ // Writing the history of the humanities: questions, themes and approaches. – London: Bloomsbury, 2022. – P. 305-324.
19. Rancière J. The Aesthetic Revolution and Its Outcomes // New Left Review. 2002. Vol. 14. P. 133-151.
20. Ricoeur P. Freud and Philosophy. – Yale University Press. 1970.
21. Roussou A. From the Art Institution to Instituent Praxis: Configurations of Power in the Contemporary European Art World. PhD Thesis, History of Art, The University of Edinburgh, 2019.
SOURCES
1. Baravalle M. “Art Populism and the Alter-Institutional Turn.” e-flux. Available at: https://www.e-flux.com/journal/89/182464/art-populism-and-the-alter-institutional-turn/ (accessed: 21.10.2024).
2. Ben'yamin V. “Novye sochineniya” [Walter Benjamin. New Works]. Fond V–A–C [V–A–C Foundation]. Available at: URL: https://V–A–C.org/publishing/new-works (accessed: 09.11.2024). (in Russian)
3. Chukhrov K. “On the False Democracy of Contemporary Art.” e-flux. Available at: https://www.e-flux.com/journal/57/60430/on-the-false-democracy-of-contemporary-art/ (accessed: 22.10.2024).
4. “Dom kul'tury” [The House of Culture]. Dom kul'tury «GES-2». Available at: https://ges-2.org/about-house-of-culture (accessed: 01.11.2024). (in Russian)
5. D'yakonov V. “Hudozhnik kak znatok. "Vzaimodejstviya" v Moskovskom muzee sovremennogo iskusstva” [The Artist as Connoisseur. “Interactions” at the Moscow Museum of Modern Art]. Kommersant. Available at: https://www.kommersant.ru/doc/3042326 (accessed: 03.11.2024). (in Russian)
6. Grojs B. “Zaharov Vadim: Ob uchastnike. Obeshchanie avtonomii” [Zakharov Vadim: About the participant. The promise of autonomy]. Moskovskij muzej sovremennogo iskusstva [Moscow Museum of Modern Art]. Available at: https://catalog.mmoma.ru/veru/portfolio/zaharov-groyce.htm (accessed: 22.10.2024). (in Russian)
7. Lütticken S. “Social Media: Practices of (In)Visibility in Contemporary Art.” jonasstaal.nl, 22.01.19. Available at: https://www.jonasstaal.nl/site/assets/files/1621/2015-09-23_sven_lutticken-_social_media-_practices_of_in_visibility_in_contemporary_art_afterall.pdf (accessed: 15.10.2024).
8. “"Na ruinah voobrazhaemyh istorij": interv'yu s Arseniem Zhilyaevym” [“On the ruins of imaginary stories”: an interview with Arseny Zhilyaev]. SPECTATE. Available at: https://spectate.ru/arseny-zhilyaev-monotony/ (accessed: 18.11.2024). (in Russian)
9. Para-Institutions. Beside and Beyond the Museum, the University. Available at: https://documenta-studien.de/para-institutions-pannel-2018 (accessed: 22.10.2024).
10. “Rasshirenie prostranstva. Iz centra” [Expanding Space. Out of the Centre]. V–A–C.org. Available at: https://V–A–C.org/projects/expanding-space (accessed: 15.10.2024). (in Russian)
11. “Seyatel' vremeni, pyatikonechnyj muzej, negativnaya nostal'giya. Arsenij Zhilyaev i Keti Chuhrov beseduyut na vystavke "Budni raspoznavatelya obrazov"” [Time sower, five-pointed museum, negative nostalgia. Arseny Zhilyaev and Keti Chukhrov talk at the exhibition “Weekdays of an Image Recognizer”]. Colta.ru. Available at: https://www.colta.ru/articles/art/27856-arseniy-zhilyaev-keti-chuhrov-beseda-vystavka-budni-raspoznavatelya-obrazov (accessed: 18.11.2024). (in Russian)
12. Tihomirova Y. “Laterna magica, ili Mashina zreniya i giperreal'nost' levogo MOSKha” [Laterna magica, or The Vision Machine and the Hyperreality of the Left MOSKh]. Artgid. Available at: https://artguide.com/posts/2798?page=2 (accessed: 09.11.2024). (in Russian)
13. Vepreva A., Vilensky D., Osminkin R., Stolet J. “A Discussion with Residents of Rosa House of Culture.” FIELD – A Journal of Socially Engaged Criticism. Available at: https://field-journal.com/issue-12-13/near-east-russia/a-discussion-with-residents-of-rosa-house-of-culture/ (accessed: 25.10.2024).
14. “Zhilyaev A.” Artgid. Available at: https://artguide.com/people/3152 (accessed: 12.11.2024). (in Russian)
REFERENCES
1. Alberro A., Stimson B. (Eds.). Institutional critique: An anthology of artists’ writings. – Cambridge: MIT Press, 2011.
2. Aronson O.V. “Affektivnaya ekonomika iskusstva” [The affective economy of art]. Trudy IPSI. Tom II. Oleg Aronson, Elena Petrovskaya. Chto ostaetsya ot iskusstva [IPSI Works. Volume II. Oleg Aronson, Elena Petrovskaya. What Remains of Art]. Moscow, Institut problem sovremennogo iskusstva [Institute of Contemporary Art Problems], 2014. P. 76-117. (in Russian)
3. Buchloh B. “Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions.” October. 1990. Vol. 55. P. 105-143.
4. Castiglia C. “Hope for Critique?” Critique and Postcritique. Duke University Press, 2017. P. 211-229.
5. Chekhonadskih M. “Museum of Proletarian Culture. The Industrialization of Bohemia.” Arseniy Zhilyaev. Museum of Proletarian Culture. The Industrialization of Bohemia. Venezia, Marsilio, 2013. P. 17-23.
6. Chubarov I.M. Kollektivnaya chuvstvennost'. Teorii i praktiki levogo avangarda [Collective Sensuality. Theories and practices of the left avant-garde]. Moscow, Vysshaya Shkola Ekonomiki [Higher School of Economics], 2014. (in Russian)
7. Cullinan N. “Arseniy Zhilyaev. The Museum as Medium.” Arseniy Zhilyaev. Museum of Proletarian Culture. The Industrialization of Bohemia. Venezia, Marsilio, 2013. P. 10-13.
8. Degot E. “The Artist as Director: ‘Artist Organisations International’ and its Contradictions.” Afterall. 2015. Vol. 40. P. 20-27.
9. Enik N. Slava Van Goga: Opyt antropologii voskhishcheniya [The Glory of Van Gogh, an Anthropology of Admiration]. Moscow, V–A–C Press, 2014. (in Russian)
10. Gilen P. Bormotanie hudozhestvennogo mnozhestva [The Murmuring of the Artistic Multitude]. Moscow, Ad Marginem, 2015. (in Russian)
11. Kerimov T.H. “Kritika i postkritika v gumanitarnyh naukah: smeshchenie oppozicii” [Critique and postcritique in the humanities: Displacement of the opposition]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Tomsk State University journal]. 2023. No 490. P. 81-88. (in Russian)
12. Kerimov T.H. “Uporstvo kritiki i tupiki postkritiki” [The persistence of critique and the impasses of postcritique]. Philosophy Journal of the Higher School of Economics. 2023. No 7(2). P. 60-85. (in Russian)
13. Latur B. “Pochemu kritika vydohlas'? Ot faktov k voprosam, vyzyvayushchim ozabochennost'” [Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern]. Logos. 2023. T. 33. No 5. P. 29-64. (in Russian)
14. Maksimov D. “Agentstvo singulyarnyh issledovanij. Dalekoe nastoyashchee” [Singularity Research Agency. The distant present]. Hudozhestvennyj zhurnal [Moscow Art Magazine]. 2016. No 99. P. 80-89. (in Russian)
15. Paul H. J. “The postcritical turn: unravelling the meaning of ‘post’ and ‘turn’.” Writing the history of the humanities: questions, themes and approaches. London, Bloomsbury, 2022. P. 305-324.
16. Rancière J. “The Aesthetic Revolution and Its Outcomes.” New Left Review. 2002. Vol. 14. P. 133-151.
17. Ricoeur P. “Freud and Philosophy.” Yale University Press. 1970.
18. Roussou A. From the Art Institution to Instituent Praxis: Configurations of Power in the Contemporary European Art World. PhD Thesis, History of Art, The University of Edinburgh, 2019.
19. Shpet G.G. “Problemy sovremennoj estetiki” [The problems of contemporary aesthetics]. Rossijskaya Akademiya Hudozhestvennyh Nauk. Ottisk iz zhurnala “Iskusstvo” [Russian Academy of Art Sciences. Reprint from the magazine “Art”]. – Moscow, 1923. No 1. P. 41-78. (in Russian)
20. Vahshtajn V.S., Vajzer T.V. Soobshchestva i kommunikaciya: transformaciya social'nyh mekhanizmov formirovaniya solidarnosti [Communities and communication: transforming social mechanisms of solidarity formation]. Moscow, Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya “Rossijskaya akademiya narodnogo hozyajstva i gosudarstvennoj sluzhby pri Prezidente Rossijskoj Federacii” [The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)], 2016. (in Russian)
21. Vilenskij D. “O neobhodimosti shkoly” [On the necessity of school]. Hudozhestvennyj zhurnal [Moscow Art Magazine]. 2013. No 92. P. 97-99. (in Russian)
СНОСКИ
1 Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
2 Facebook принадлежит признанной экстремистской и запрещенной на территории России компании Meta Platforms, Inc.
О журнале
- История журнала
- Редакционный совет и редакционная коллегия
- Авторы
- Этические принципы
- Правовая информация
- Контакты
Авторам
- Регламент принятия и рассмотрения статьи
- Правила оформления статьи
- Правила оформления сносок
- Правила оформления списка литературы
Номера журналов
- Артикульт-60 (4-2025)
- Артикульт-59 (3-2025)
- Артикульт-58 (2-2025)
- Артикульт-57 (1-2025)
- Артикульт-56 (4-2024)
- Артикульт-55 (3-2024)
- Артикульт-54 (2-2024)
- Артикульт-53 (1-2024)
- Артикульт-52 (4-2023)
- Артикульт-51 (3-2023)
- Артикульт-50 (2-2023)
- Артикульт-49 (1-2023)
- Артикульт-48 (4-2022)
- Артикульт-47 (3-2022)
- Артикульт-46 (2-2022)
- Артикульт-45 (1-2022)
- Артикульт-44 (4-2021)
- Артикульт-43 (3-2021)
- Артикульт-42 (2-2021)
- Артикульт-41 (1-2021)
- Артикульт-40 (4-2020)
- Артикульт-39 (3-2020)
- Артикульт-38 (2-2020)
- Артикульт-37 (1-2020)
- Артикульт-36 (4-2019)
- Артикульт-35 (3-2019)
- Артикульт-34 (2-2019)
- Артикульт-33 (1-2019)
- Артикульт-32 (4-2018)
- Артикульт-31 (3-2018)
- Артикульт-30 (2-2018)
- Артикульт-29 (1-2018)
- Артикульт-28 (4-2017)
- Артикульт-27 (3-2017)
- Артикульт-26 (2-2017)
- Артикульт-25 (1-2017)
- Артикульт-24 (4-2016)
- Артикульт-23 (3-2016)
- Артикульт-22 (2-2016)
- Артикульт-21 (1-2016)
- Артикульт-20 (4-2015)
- Артикульт-19 (3-2015)
- Артикульт-18 (2-2015)
- Артикульт-17 (1-2015)
- Артикульт-16 (4-2014)
- Артикульт-15 (3-2014)
- Артикульт-14 (2-2014)
- Артикульт-13 (1-2014)
- Артикульт-12 (4-2013)
- Артикульт-11 (3-2013)
- Артикульт-10 (2-2013)
- Артикульт-9 (1-2013)
- Артикульт-8 (4-2012)
- Артикульт-7 (3-2012)
- Артикульт-6 (2-2012)
- Артикульт-5 (1-2012)
- Артикульт-4 (4-2011)
- Артикульт-3 (3-2011)
- Артикульт-2 (2-2011)
- Артикульт-1 (1-2011)
- Отозванные статьи
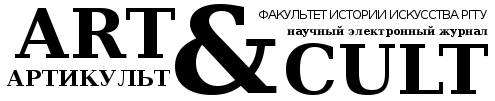
.png)