О.В. КАЛУГИНА Луганский художник Сергей Кондрашов. Размышления на выставке. Август 2023
ЛУГАНСКИЙ ХУДОЖНИК СЕРГЕЙ КОНДРАШОВ. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ. АВГУСТ 2023
Научная статья
УДК 7.036(470)+7.044
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-1-28-34
Дата поступления: 19.07.2024. Дата одобрения после рецензирования: 24.12.2024. Дата публикации: 15.04.2025.
Автор: Калугина Ольга Вениаминовна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: evaksenia@me.com
ORCID ID: 0000-0002-8024-5379
Аннотация: Статья посвящена анализу творчества луганского живописца Сергея Николаевича Кондрашова, чья выставка была представлена в залах Центрального дома художника в августе 2023 года. Экспозиция была развернута в рамках проекта «С Россией в сердце. Русская классическая традиция в искусстве ЛНР». Статья открывается кратким анализом становления русской художественной школы Нового времени и анализу оснований причисления ее к классической традиции. Творчество Сергея Кондрашова рассматривается по хронологическому и типологическому принципу, что позволяет аргументированно развернуть анализ его творческого метода и особенностей образного решения полотен. Широта творческих интересов Сергея Кондрашова очень велика. Его художественная практика охватывает практически все жанры и самые разнообразные техники. Он портретист и пейзажист, мастер натюрморта и элегантного ню, он успешен равно в жанровой и исторической живописи. Сюжеты Кондрашова остро отзываются на сиюминутные события и при этом наполнены многоуровневыми коннотациями, позволяющими отнести их к жанру исторических полотен.
Ключевые слова: живопись, пейзаж, классика, традиция, портрет, натюрморт, исторический жанр, тематическая картина
LUGANSK ARTIST SERGEI KONDRASHOV. REFLECTIONS AT THE EXHIBITION. AUGUST 2023
Research article
UDC 7.036(470)+7.044
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-1-28-34
Received: July 19, 2024. Approved after reviewing: December 24, 2024. Date of publication: April 15, 2025.
Author: Kalugina Olga Veniaminovna, Doctor of Sciences in Art History, Principal researcher, The Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: evaksenia@me.com
ORCID ID: 0000-0002-8024-5379
Summary: The article is devoted to an analysis of the work of the Lugansk painter Sergei Nikolaevich Kondrashov, whose exhibition was presented in the halls of the Central House of Artists in August 2023. The exhibition was launched as part of the project “With Russia in the Heart. Russian classical tradition in the art of the LPR.” The article opens with a brief analysis of the formation of the Russian art school of the New Age and an analysis of the grounds for classifying it as a classical tradition. The work of Sergei Kondrashov is examined on a chronological and typological basis, which allows for a reasoned analysis of his creative method and the features of the figurative design of the paintings. The breadth of Sergei Kondrashov's creative interests is very wide. His artistic practice covers almost all genres and a wide variety of techniques. He is a portrait and landscape painter, a master of still life and elegant nudes, he is equally successful in genre and historical painting. Kondrashov’s subjects are acutely responsive to momentary events and at the same time filled with multi-level connotations, allowing them to be classified as historical paintings.
Keywords: painting, landscape, classic, tradition, portrait, still life, historical genre, thematic painting
Для цитирования:
Калугина О.В. Луганский художник Сергей Кондрашов. Размышления на выставке. Август 2023 // Артикульт. 2025. №1(57). С. 28-34. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-1-28-34
Масштабный проект «С Россией в сердце. Русская классическая традиция в искусстве ЛНР. Творчество С.Н. Кондрашова» был представлен в залах Центрального дома художника в Москве в августе 2023 года. В настоящее время возникшая временна́я дистанция позволяет оценить его результаты и подвести некоторые итоги. В контексте заявленной темы видится правомерным начать анализ экспонировавшегося материала с общей характеристики русской живописной традиции и затем перейти к анализу творчества Сергея Николаевича Кондрашова, чьи работы столь впечатляюще были представлены в экспозиции. Итак, существует ли вообще особенная русская классическая традиция? История искусств дает на это однозначный и убедительный ответ. С момента организации еще петровской Академии наук и художеств в 1824 году искусствам в России было предоставлено почетное и можно сказать государствозначимое место. А с момента учреждения Академии художеств в 1757 году и придания ей статуса Императорской в 1764-м высокая социальная значимость изящных искусств была убедительно подкреплена и взята под непосредственную опеку государства.
Вполне закономерно, что русская академическая традиция ориентировалась на художественную систему западноевропейских академий, раз уж развитие страны пошло в данном направлении начиная с Петровской эпохи. В качестве образцов – а слово классическая происходит от понятия класс, то есть образец – были восприняты величайшие достижения искусства античности и Ренессанса, а также раннего европейского классицизма XVII века. Почему именно таков был путь не только русской, но и европейской в целом традиции? Это положение хорошо объясняется тем, что становление национальных европейских государств требовало утверждения соответствующей системы ценностей – чувства гражданственности, верности отечеству, понимания роли государственного деятеля и деятеля культуры, служащего своему народу, своей державе.
Именно эти качества утверждались величайшими шедеврами древнегреческого и древнеримского искусства, именно гордость за свой город-государство подвигало итальянцев украшать его бессмертными шедеврами в эпоху Ренессанса, именно укрепление государственности Франции сформировало идеологическую платформу раннего европейского классицизма. Эта же программа закономерно оказалась широко востребованной в утверждающей себя в качестве полноценной европейской державы Российской Империи. Вполне естественно, что программой подготовки художника в России стало обращение к соответствующей европейской системе подготовки мастера. Стройная и логичная программа академического художественного образования позволила появиться в истории искусства великим русским живописцам от Рокотова до Кипренского, от Лосенко до Александра Андреевича Иванова.
Но Россия слишком огромная и чрезвычайно сложная по своему социальному составу держава, так что одной составляющей для формирования полноценной художественной школы ей было точно недостаточно. И в середине XIX века на подлинно национальной московской почве начинает утверждаться альтернативная школа подготовки мастеров живописи, графики, а затем ваяния и зодчества – Московское училище живописи ваяния и зодчества (далее – МУЖВЗ). Опубликованные ныне документы ярко рисуют потрясающую картину поддержки этой новой школы со стороны Императорской академии художеств. Во многих вопросах МУЖВЗ наследовало методику Императорской академии, так как здесь преподавали в основном ее выпускники [Калугина, 2020, с. 97-103].
Однако особое положение первопрестольной, как уважительно именовали Москву в годы доминирования северной столицы, во второй половине ХIX века стало заявлять о себе все убедительнее. Москва естественным образом стала главным транспортным, торговым, то есть экономическим и духовным центром страны, а динамика развития ее культурной программы поистине становится все более впечатляющей. К 1880-м годам МУЖВЗ, оставаясь частным учебным заведением, превосходит Императорскую академию художеств по числу учащихся более чем в два раза [Дмитриева, 1951, с. 117-130]. Программа получения профессиональной подготовки русских художников усложняется – они начинают учиться в Москве, поступают затем в Академию, где получают возможность добиться высоких результатов и в качестве поощрения пенсионерской поездки в Европу с целью продолжения своего образования. Таким образом, два центра подготовки художественных кадров Российской империи взаимно обогащали друг друга.
Вполне закономерно, Императорская академия художестве выступала хранительнице традиций, владеющей уникальными методиками преподавания и передачи навыков и умений новым поколениям мастеров, не снижая требований к владению рисунком, композицией, умением выразить сложные характеристики героев в портрете и идеально выстроить пейзаж. Что же давала московская живописная школа? Она развивала на базе крепкой академической выучки совершенно новые тенденции – опору на работу с натуры, богатую школу колористики, естественно проистекающей из глубинных традиций русской народной культуры, интерес к родной природе, глубокую вовлеченность в социальную жизнь страны. И такое направление развития русского искусства также становится образцом для молодого поколения мастеров, то есть становится собственной национально сформированной классикой.
Вот так и была сформирована русская классическая художественная школа, достижения которой закреплялись и развивались в советское время уже в рамках обновленной системы образования.
Обращаясь непосредственно к творчеству Сергея Николаевича Кондрашова, мы можем убедиться, что он является продолжателем именно этой обновленной художественной традиции. Прежде всего необходимо охарактеризовать его академического наставника Евсея Евсеевича Моисеенко, который сам впитал мощный потенциал национальной школы [Каменский, 1989, с. 317-318] как в лице представителя строгой академической линии Исаака Израилевича Бродского, так и приверженца импрессионистической живописной маэстрии Василия Николаевича Яковлева и последователя экспрессионизма Александра Александровича Осмёркина. Все это плодотворно уживалось под крышей преобразованной Императорской академии художеств!
Творческий метод учителя к моменту встречи с ним Сергея Кондрашова обрел совершенно особенные черты. От первоначальной приверженности строгой логике построения пространства по законам центральной линейной геометрической перспективы Моисеенко с конца 1960-х годов постепенно переходит к собственной оригинальной системе пространственного построения композиции: «Если для ранних работ характерны традиционные способы использования линейной и воздушной перспективы, иллюзии глубины, то в дальнейшем мастер начинает искать новые пути решения этих вопросов. От воспроизведения реального, иллюзорного, трехмерного пространства художник все больше пытается найти возможности организации самого холста, не нарушающие его целостности» – тонко подмечает исследователь творчества мастера академик живописи М.Г. Кудреватый [Кудреватый, 2015, с. 96]. Этот новационный подход полностью сформировался в годы зрелого творчества мастера, что не могло не сказаться и на его педагогических установках. Получив такую блистательную и многогранную подготовку, Сергей Николаевич в 1989 году едет на родной Донбасс и начинает свою деятельность в Луганске. Именно в этом городе были созданы все его произведения, именно на южнорусской почве окреп и развился его талант.
Широта творческих интересов Сергея Кондрашова поистине поражает. Его художественная практика охватывает практически все жанры и самые разнообразные техники. Он портретист и пейзажист, мастер натюрморта и элегантного ню, он успешен равно в жанровой и исторической живописи. Одновременно, вглядываясь в картины мастера, мы можем проследить драматические повороты истории нашей страны. Вновь обращаясь к периоду становления таланта живописца, необходимо напомнить, что его наставник прошел фронт и ужасы концлагеря, что сформировало совершенно особенное, глубоко выстраданное чувство гражданственности, всегда угадываемое в его полотнах и, несомненно, воспринятое учениками.
Работы Кондрашова периода учебы пронизаны светом, их отличает свободный мазок и легкий серебристый колорит. Они словно наполнены надеждами юности, ее свободными мечтами, будь то исторические реминисценции в «Освобождении» (1985), сцены сельского труда в «Жатве» (1987) или портрет любимой, залитой светом, в композиции «Летом. Портрет жены» (1988). В то же время прощание с alma mater уже полно драматизма, что так внятно считывается в тревожном небе на полотне «У сфинкса» (1989). В этих ранних работах также прослеживается одна из важнейших черт творческого почерка живописца: глубоко эмоциональное и в силу этого искренне-лирическое восприятие мира. Несомненно, драматическое состояние социального климата конца 1980-х – начала 1990-х годов, ознаменовавшее трагические перемены не только в судьбах нашей страны, но, как это теперь совершенно ясно, и всего мира, в определенной степени обусловили будущий эмоциональный строй образов живописца.
В то же время нельзя не учитывать, что получивший распределение в Ростов-на-Дону, Кондрашов предпочел направиться в Луганск, и здесь он попал в окружение подлинных профессионалов. Прежде всего необходимо упомянуть Александра Александровича Фильберта (1911–1996) – прекрасного педагога, основателя луганского отделения Союза художников, членом которого он состоял с 1939 года. Какое-то особое обаяние шахтерского края заставило этого уроженца саратовской губернии отказаться от работы в Киеве ради переезда на луганскую землю и вновь вернуться на Донбасс после войны [Фильберт, 2011].
По распределению после окончания живописного отделения Киевского художественного института в 1939 году начинает свой творческий путь в Луганске и Моисей Львович Вольштейн (1916–2000) [Выставка работ…, 2016]. Этот уроженец Беларуси вернулся после эвакуации в Донбасс, где стал для Фильберта не только коллегой по творческому цеху, но и соавтором ряда их совместных проектов, в том числе в жанре исторических полотен. Также активно работал в Луганске в те годы их воспитанник – Владимир Васильевич Козлов (1924–1990), как и Фильберт, участник Великой Отечественной войны. В таком профессиональном окружении начал свою творческую карьеру молодой Сергей Кондрашов. Как видим, начинающему живописцу было у кого учиться и на чьи достижения ориентироваться.
Однако в конце 1980-х годов напряжение в социально-политическом бытии СССР нарастало, антисоветские силы расширяли свое влияние и непосредственно вторгались во власть. И разве мог поверить молодой художник, что его творческую родину оторвут от единой державы и что через десятилетия это обернется страшной трагедией?! Гейне когда-то тонко подметил: «Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта». Шекспир выразил это еще радикальнее: “The time is out of joint”1, или в привычном нам переводе А. Кронебсрга 1844 года это звучит как «распалась связь времен…». Подобным образом отзывается исторический разлом и в сердце художника. Как же мог ответить начинающий живописец на это испытание? Закономерным выбором стало стремление припасть к истокам.
В творчестве Сергея Кондрашова самого конца 1980-х и 1990-х годов этот порыв ярко выражен прежде всего в портретах родных и близких. Попытка хотя бы в рамках своей семьи сохранить расторгаемые историей связи ярко запечатлена в работе «Мои родные» (1990), где внучка припадает к коленям бабушки, как бы воспроизводя неразрывность череды сменяющих друг друга поколений. При этом старческая фигура прописана графично и конструктивно, как и подобает телосложению, прошедшему испытание многими десятками лет. А дитя, нежно охраняемое старческой рукой, золотится мягкими округлыми очертаниями.
Совершенно иное стилистическое решение, скорее отсылающее нас к раннему Ренессансу с его величественной простотой, представлено в «Девочке с одуванчиком» (1990). Однако подтекст картины практически тот же: на фоне могучего древа девочка-подросток беспечно готова сдуть седое убранство отцветшего одуванчика. Так юная жизнь сменяет уходящую старость и одновременно находится под охраной глубоко укорененной и несгибаемой традиции.
Ассоциациями с драматизмом переживаемой эпохи пронизано полотно «Смутное время» (1992) с устрашающими ликами власть предержащих на черном фоне. И только охваченная золотым сиянием утонченная тень ангела предстаёт как обещание защиты и спасения. Кондрашов ищет опору и в истории давно исчезнувших цивилизаций, которые тем не менее оставили на Земле неизгладимый величественный след. Эти исторические реминисценции ярко проявляют себя в композициях «Священный путь» (1996) и «Дикое поле» (1997). С поразительной смелостью и со всей очевидностью художник уравнивает в значимости памятники Древнего Египта и отечественной дописьменной истории.
Подлинной творческой отдушиной для мастера становятся его натюрморты. При этом техника письма чутко следует за натурой и художественным замыслом живописца. Каждый цветок – неизменный участник таких композиций – становится метафорой настроения, размышлений, воспоминаний и надежд. Безмятежное цветение «Сирени» (1992) на фоне атрибутов мира искусства со временем уступает место следам ушедшего расцвета и неизбежного угасания в изысканной композиции «Зимнее окно» (2000), а ломкие трогательные «Цикламены» (2003) словно ищут защиты, доверчиво распускаясь на фоне слез дождя.
Подобны цветам и поэтичные кондрашовские ню – как не любоваться женской телесностью, ныне абсурдно гонимой на Западе, но неизбежно заключающей в себе все смыслы продолжения жизни и обещание ее расцвета. В неге «Сна» (1992) сама природа мирно почивает под меркнущими в ее сиянии полотнами. А в знойном «Летнем вечере» (2001) безгранично царит горячее обещание любви. Чистота, подобная первому снегу, в одноименной композиции (2002) одновременно неразрывно связана с любованием юной плотью, еще не плодоносившей и украшающей своим присутствием мир, которому она однажды даст продолжение.
Обращаясь к пейзажам Кондрашова, невольно вспоминаем феномен первой выставки в СССР после начала Великой Отечественной войны [Очерки истории..., 1980, с. 170]. На ней преобладали именно пейзажи – незамысловатые трогательные просторы нашей родины. Как тонко подмечали выдающиеся советские искусствоведы Б.Р. Виппер и Р.С. Кауфман, «большое значение приобрела в годы войны пейзажная живопись. До этих лет советским художникам редко удавалось средствами пейзажного образа выразить столь лирично и напряженно свои раздумья о Родине» [Виппер, Кауфман, 1964, с. 16].
Так от изящных декоративно трактованных пейзажей 1990-х с их любованием мирными далями («Серебристая ночь», 1996; «Свежий ветер», 1999) Сергей Николаевич переходит в 2000-х к абсолютно традиционным композициям. Конфликты в окружающем мире нарастают и также, как в годы великих испытаний 70-летней давности, «война заставила по-иному взглянуть на близкое и привычное, увидеть новые качества в давно знакомом: ранее незамечаемое стало значительным, необычайное – повседневным» [Виппер, Кауфман, 1964, с. 164]. Что было обыденным и простым делается бесконечно драгоценным, так как нарастает угроза его утраты. Таковы «Родные просторы» (2001), переливающиеся серебром и оливковыми тонами предвечернего покоя, «Родная улица» (2006) с ее привычным и дорогим зимним деревенским антуражем, «Степь» (2008), залитая золотом мягкого сияния летнего вечера, и вторящие ей «Сумерки» (2009).
Однако после 2014-го тематика пейзажных композиций приобретает совершенно иную эмоциональную окраску, и как следствие иную пластическо-пространственную организацию. Ведь «Кто с мечом к нам придет…» (2017), того ждет ответ всей российской воли и силы. Разбитая военная техника окрашивает зимнюю степь глубоким драматизмом в композиции «Луганск. Фронтовой пейзаж» (2018). Тлевший конфликт разразился прямым противостоянием, и Луганск не остался в нем в одиночестве: Россия рядом, о чем и свидетельствует пейзаж «Спасибо матушке России!» (2015). А в 2022-м над древней донской землей уже летят боевые вертолеты. Однако вместо чувства угрозы они несут совершенно другие ассоциации – «Наши идут!» (2022).
Одновременно подлинная опора мастера – это портреты современников. Так тонкое понимание психологии творца ярко проявляет себя в портрете Николая Можаева (1998) над незавершенным эскизом. Мастер на мгновение отвел глаза от своей работы, но взгляд его явно принадлежит не этому миру, а тому замыслу, который зреет в его воображении. Лирический портрет «Саши» (2000), с нежной юношеской грустью провожающей лето, сливает образ девушки с природой, идентифицируя его и по настроению, и по колориту с осенним теплым увяданием. В композиции «Золотая осень» (2002) взрослая самодостаточная женщина сама становится метафорой зрелости отплодоносившей природы: она суть воплощение особого женского интеллекта, готового к обороне от жестокого мира, судя по жесту рук, но трогательной в своей незащищенности. Трогательная встреча с матерью, напряженно вглядывающейся в лицо дорогого сына, согревает вечными чувствами незамысловатый зимний пейзаж композиции «Ну здравствуй, мама» (2006).
Глубоко прочувствованно обращается Сергей Николаевич и к духовным образам отечественной истории. Стилистика его претерпевает радикальное преображение, как и колористическое решение. В эпическом полотне «За Русь Святую. Пересвет и Ослябя» (2017) полумифические персонажи представлены такими, как традиционно трактует их народное предание. Историки не устают спорить об их происхождении, монашестве, участии в поединках, жизни и смерти. Но художника волнует не это – в его картине главной становится тема связи тысячелетней традиции верности своей земле, запечатленной в языческих именах героев композиции, и христианского начала, зовущего на духовный и ратный подвиг. Монах с копьем в руке, примкнувший к нему «плечом к плечу» брат, русский суровый зимний простор и скорбный Спаситель как их тыл и опора – вот тот ряд образных составляющих композиции, с трудом поддающихся вербализации и, наверное, именно поэтому так трогающих зрителя. После такого опыта толкования истории полотно «Христос перед Пилатом» (2020) с его слиянием символики с абсолютной конкретикой политической остроты видится практически закономерным шагом в поиске наиболее адекватных способов передачи чувств мастера. Метафора предательства и корыстолюбия представлена здесь совершенно конкретными лицами, но существующими словно в ином мире, нежели принимающей свою жертвенную роль Сын божий.
Далее, начиная с 2014 года, в творчестве Кондрашова формируется портретная галерея современников-ополченцев. Если ранее портреты земляков насыщены конкретикой костюма и мирного достоинства, как в работах «Казак Федичев» (2000) или «Казак старовер Фокич» (2008), то теперь образные характеристики резко меняются, как и композиционное построение полотен. Ополченцы – люди из разной среды, они разного возраста и профессий, будь то просто «Ополченец. Позывной “Боец”» (2015), или «Фронтовой священник» (2016), или «Боец Назаров Г.Б. Позывной “Художник”» (2022). Но они – один народ и родина у них одна. Именно поэтому они стоят рядом в этом смертном испытании. У ополченцев еще нет единой формы, но у них у всех есть оружие и решимость идти до конца. А с 2022 года в их взглядах уже появляется покойная уверенность в победе, высокое чувство достоинства и душевного равновесия, что так ярко заявляет о себе в героях работ «Портрет ополченца. Позывной “Михей”» и «Капитан Волгин Александр Сергеевич. Позывной “Кедр”» (обе – 2023).
Портрет нередко выступает в композициях Сергея Кондрашова в качестве важной составляющей жанровой картины, и в качестве яркого примера такого решения можно назвать работу «Не забудем – не простим» (2022). Тема прямо обращена к эпохе Великой Отечественной войны, столь талантливо и эмоционально воплощенной в одноименной графической серии Д.А. Шмаринова 1943 года. Работа имеет свою историю бытования, во всяком случае, именно так излагают ее луганчане. На полотне представлена старая женщина со всеми признаками перенесенного инсульта, однако поднявшаяся и вставшая у своих ворот, безжалостно изрешеченных осколками нацистских снарядов. У нее нет другого выхода – у ее ног стоит малыш, родителей которого скорее всего уже нет в живых, и только эта бабушка может сохранить его жизнь. Но вот перед представлением на выставке в картине появился ряд знаковых деталей: георгиевская лента на каркасе разрушенной ограды; птичка, вернувшаяся в родной дом, поскольку прекратилась канонада; и бабочка на ладони мальчика как символ возрождающейся души. Так сквозь трагедию проглядывает слабый, но несомненный луч надежды.
В этом смысле в работах Сергея Кондрашов просматривается продолжение талантливой линии произведений Аркадия Александровича Пластова эпохи Великой Отечественной войны («Жатва», «Сенокос», обе 1945), где разрыв в линии поколений также свидетельствует о невосполнимых человеческих утратах, а образы детей и подростков дарят надежду на возрождение страны. Так и военные сюжеты Кондрашова остро отзываются на сиюминутные события и при этом наполнены многоуровневыми коннотациями, позволяющими отнести их к жанру исторических полотен.
Творчество Сергея Николаевича Кондрашова находится в фазе расцвета. Российскому зрителю еще предстоит, несомненно, не раз увидеть его работы на выставках, как коллективных, так и персональных. В одной статье раскрыть все грани его активно развивающегося таланта, разумеется, невозможно, но существует надежда, что отечественная критика еще не раз обратится к анализу творчества этого мощного мастера, подтверждая проникновенные слова Татьяны Бойцовой, представлявшей каталог его персональной экспозиции: «Время и история расставят все по своим местам, но уже сейчас вырисовывается яркая и бескомпромиссная личность художника-гражданина в классическом значении понятия “русская интеллигенция”» [Бойцова, 2023, с. 10].
ИСТОЧНИКИ
1. Выставка работ Моисея Вольштейна, посвященная 100-летию художника, открылась в Галерее искусств. Режим доступа: https://gorod-lugansk.com/2016/02/19/vystavka-rabot-moiseya-volshteyna-posvyaschennaya-100-letiyu-hudozhnika-otkrylas-v-galeree-iskusstv.html (дата обращения: 10.06.2024)
2. С Россией в сердце. Сергей Кондрашов. Каталог: Живопись, Графика. – Москва: ООО «ИТК “СВЕТАЛИНА”», 2023.
3. Фильберт В. Свет таланта большого художника. К 100-летию со дня рождения Александра Александровича Фильберта. – Киев: Издательство: СОФИЯ-А, 2011.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бойцова Т. С Россией в сердце // С Россией в сердце. Сергей Кондрашов. Каталог: Живопись, Графика». – Москва: ООО «ИТК “СВЕТАЛИНА”», 2023. – С. 5-10.
2. Виппер Б., Кауфман Р. Живопись / Искусство 1941–1945 годов // История русского искусства. Т. XIII (дополнительный). – Москва: «Наука», 1964.
3. Дмитриева Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. – Москва: Искусство, 1951.
4. Калугина О. Из истории исследования московской художественной школы второй половины XIX века // Искусство постигать искусство. Сборник статей к 100-летию Н.А. Дмитриевой. – Москва: БуксМАрт, 2020. – С. 97-103.
5. Каменский А. Романтический монтаж. – Москва: Советский художник, 1989.
6. Кудреватый М. К вопросу о творческом методе Е.Е. Моисеенко // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 33. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 96-110.
7. Очерки истории советского искусства: Архитектура, живопись, скульптура, графика / [П.А. Павлов, А.М. Журавлев, А.И. Морозов и др.; Отв. ред. Г.Г. Поспелов]. – Москва: Советский художник, 1980.
SOURCES
1. Filbert V. Svet talanta bol'shogo khudozhnika. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya Aleksandra Aleksandrovicha Fil'berta [The light of a great artist's talent. To the 100th anniversary of the birth of Alexander Alexandrovich Filbert], Kiev, Izdatel'stvo: SOFIYA-A, 2011.
2. S Rossiej v serdtse. Sergej Kondrashov. Katalog: ZHivopis', Grafika [With Russia in the heart. Sergey Kondrashov. Catalog: Painting, Graphics]. Moscow, OOO “ITK "SVETALINA"”, 2023.
3.Vystavka rabot Moiseya Vol'shtejna, posvyashhennaya 100-letiyu khudozhnika, otkrylas' v Galeree iskusstv [An exhibition of works by Moses Wolshtein, dedicated to the 100th anniversary of the artist, opened at the Art Gallery]. Available at: https://gorod-lugansk.com/2016/02/19/vystavka-rabot-moiseya-volshteyna-posvyaschennaya-100-letiyu-hudozhnika-otkrylas -v-galeree-iskusstv.html (accessed: 10.06.2024)
REFERENCES
1. Bojtsova T. “S Rossiej v serdtse” [With Russia in the heart]. S Rossiej v serdtse. Sergej Kondrashov. Katalog: ZHivopis', Grafika [With Russia in the heart. Sergey Kondrashov. Catalog: Painting, Graphics]. Moscow, OOO “ITK "SVETALINA"”, 2023. P. 5-10.
2. Dmitrieva N. Moskovskoe uchilishhe zhivopisi, vayaniya i zodchestva [Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture]. Moscow, Iskusstvo, 1951.
3. Kalugina O. “Iz istorii issledovaniya moskovskoj khudozhestvennoj shkoly vtoroj poloviny XIX veka” [From the history of research of the Moscow art school of the second half of the 19th century]. Iskusstvo postigat' iskusstvo [The art of comprehending art]. Moscow, BuksMArt, 2020. P. 97-103.
4. Kamenskij A. Romanticheskij montazh [Romantic montage]. Moscow, Sovetskij khudozhnik, 1989.
5. Kudrevatyj M. “K voprosu o tvorcheskom metode E.E. Moiseenko” [On the issue of the creative method of E.E. Moiseenko]. Peterburgskie iskusstvovedcheskie tetradi [St. Petersburg art history notebooks]. Issue 33. St. Petersburg, 2015. P. 96-110.
6. Ocherki istorii sovetskogo iskusstva: Arkhitektura, zhivopis', skul'ptura, grafika [Essays on the history of Soviet art: Architecture, painting, sculpture, graphics]. Moscow, Sovetskij khudozhnik,1980.
7. Vipper B., Kaufman R. “ZHivopis'. Iskusstvo 1941–1945 godov” [Painting. Art 1941–1945]. Istoriya russkogo iskusstva. T. XIII (dopolnitel'nyj) [History of Russian art. (additional)] Vol. XIII. Moscow, “Nauka”, 1964.
СНОСКИ
1 У. Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 5.
О журнале
- История журнала
- Редакционный совет и редакционная коллегия
- Авторы
- Этические принципы
- Правовая информация
- Контакты
Авторам
- Регламент принятия и рассмотрения статьи
- Правила оформления статьи
- Правила оформления сносок
- Правила оформления списка литературы
Номера журналов
- Артикульт-58 (2-2025)
- Артикульт-57 (1-2025)
- Артикульт-56 (4-2024)
- Артикульт-55 (3-2024)
- Артикульт-54 (2-2024)
- Артикульт-53 (1-2024)
- Артикульт-52 (4-2023)
- Артикульт-51 (3-2023)
- Артикульт-50 (2-2023)
- Артикульт-49 (1-2023)
- Артикульт-48 (4-2022)
- Артикульт-47 (3-2022)
- Артикульт-46 (2-2022)
- Артикульт-45 (1-2022)
- Артикульт-44 (4-2021)
- Артикульт-43 (3-2021)
- Артикульт-42 (2-2021)
- Артикульт-41 (1-2021)
- Артикульт-40 (4-2020)
- Артикульт-39 (3-2020)
- Артикульт-38 (2-2020)
- Артикульт-37 (1-2020)
- Артикульт-36 (4-2019)
- Артикульт-35 (3-2019)
- Артикульт-34 (2-2019)
- Артикульт-33 (1-2019)
- Артикульт-32 (4-2018)
- Артикульт-31 (3-2018)
- Артикульт-30 (2-2018)
- Артикульт-29 (1-2018)
- Артикульт-28 (4-2017)
- Артикульт-27 (3-2017)
- Артикульт-26 (2-2017)
- Артикульт-25 (1-2017)
- Артикульт-24 (4-2016)
- Артикульт-23 (3-2016)
- Артикульт-22 (2-2016)
- Артикульт-21 (1-2016)
- Артикульт-20 (4-2015)
- Артикульт-19 (3-2015)
- Артикульт-18 (2-2015)
- Артикульт-17 (1-2015)
- Артикульт-16 (4-2014)
- Артикульт-15 (3-2014)
- Артикульт-14 (2-2014)
- Артикульт-13 (1-2014)
- Артикульт-12 (4-2013)
- Артикульт-11 (3-2013)
- Артикульт-10 (2-2013)
- Артикульт-9 (1-2013)
- Артикульт-8 (4-2012)
- Артикульт-7 (3-2012)
- Артикульт-6 (2-2012)
- Артикульт-5 (1-2012)
- Артикульт-4 (4-2011)
- Артикульт-3 (3-2011)
- Артикульт-2 (2-2011)
- Артикульт-1 (1-2011)
- Отозванные статьи
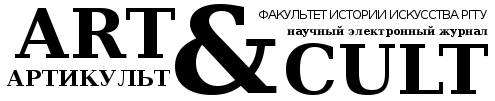
.png)