О.Н. МАЛЬЦЕВА Театрально-критическая пресса о спектакле Юрия Бутусова «Дядя Ваня». Сценография, кинематография, психология
ТЕАТРАЛЬНО-КРИТИЧЕСКАЯ ПРЕССА О СПЕКТАКЛЕ ЮРИЯ БУТУСОВА «ДЯДЯ ВАНЯ». СЦЕНОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ
Научная статья
УДК 792.09
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-100-109
Дата поступления: 15.05.2025. Дата одобрения после рецензирования: 10.06.2025. Дата публикации: 30.06.2025.
Автор: Мальцева Ольга Николаевна, доктор искусствоведения, доцент, ведущий научный сотрудник, Российский институт истории искусств, сектор театра (Санкт-Петербург, Россия), профессор кафедры русского театра, Российский государственный институт сценических искусств (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: onmalt@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9729-2729
Аннотация: Исследование посвящено проблеме рецепции критиками спектакля Юрия Бутусова «Дядя Ваня», поставленного в 2017 году в Театре им. Ленсовета. В статье рассматриваются оценки рецензентами этого спектакля, трактовки его художественного содержания, а также интерпретации составляющих спектакля, прежде всего, героев, созданных актерами, и сценографии. Кроме того, устанавливается, что выявление типа композиции произведения оказалось на периферии внимания большинства критиков; а особенность становления его художественного содержания именно как спектакля драматического театра, то есть в виде противоречия, формирующегося в процессе драматического действия, – осталось вне поля зрения всех авторов рецензий. Тем самым не был определен и тип театра, представленного в этой работе режиссёра.
Ключевые слова: драматический театр, режиссёр Юрий Бутусов, спектакль «Дядя Ваня», Театр им. Ленсовета, театральная критика
THEATRE-CRITICAL PRESS ABOUT THE PERFORMANCE BY YURI BUTUSOV “UNCLE VANYA”. SCENIC DECISIONS, CINEMA DEVICES, PSYCHE
Research article
UDC 792.09
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-100-109
Received: May 15, 2025. Approved after reviewing: June 10, 2025. Date of publication: June 30, 2025.
Author: Maltseva Olga Nikolaevna, Doctor of Art History, Associate Professor, Leading Researcher, Russian Institute of Art History, Theatre Sector (St. Petersburg, Russia), Professor of the Department of Russian Theatre, Russian State Institute of Performing Arts (St. Petersburg, Russia), e-mail: onmalt@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9729-2729
Summary: The study is devoted to the problem of the reception of Yuri Butusov's performance “Uncle Vanya” by critics, staged in 2017 at the Lensovet Theatre. The article examines the reviewers' assessments of this performance, their interpretations of its artistic content, as well as their interpretations of the performance's components, primarily the characters created by the actors and the scenography. In addition, it is established that the identification of the type of composition of the performance was on the periphery of most critics' attention; and the peculiarity of the formation of its artistic content precisely as a performance of dramatic theatre, that is, in the form of a contradiction formed in the process of dramatic action, remained outside the field of view of all reviewers. Thus, the type of theatre presented in this performance of the director was not determined.
Keywords: drama theatre, director Yuri Butusov, play “Uncle Vanya”, Lensovet Theatre, theatre criticism
Для цитирования:
Мальцева О.Н. Театрально-критическая пресса о спектакле Юрия Бутусова «Дядя Ваня». Сценография, кинематография, психология // Артикульт. 2025. №2(58). С. 100-109. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-100-109
Введение
Герои Бутусова – понятые то ли как «механические куклы», то ли как «пациенты сумасшедшего дома» – отражают не только чеховские мотивы, но и современные представления о кризисе идентичности. Пластика актеров, их жесты и мимика становятся инструментами передачи внутренних конфликтов. Бутусов часто работает с состояниями, а не с характерами, что сближает его театр с экспрессионистской традицией в кино и живописи и требует от критиков хорошего знания психологии искусства ХХ века.
Спектакль «Дядя Ваня» Юрия Бутусова представляет собой сложный художественный феномен, который требует от идеального критика междисциплинарного анализа. В таком анализе спектакль следует воспринимать не только как театральную постановку, но и как объект, находящийся на пересечении теории искусства, кинематографических приемов, сценографии и психологии восприятия. Пока что такой критик явно не возник. Творчество Бутусова вызывает полярные оценки критиков, что само по себе свидетельствует о его значимости для современной культуры. Одни видят в его спектаклях «бунтарски-отчаянного» Чехова, другие – избыточную театральность, граничащую с абсурдом. Однако именно эта противоречивость делает его работы особенно интересными для анализа в рамках психологии искусства, где важны не только формальные приемы, но и механизмы воздействия на зрителя. Как режиссёру удается совмещать чеховский подтекст с визуальной агрессией? Почему его герои воспринимаются то как марионетки, то как трагические фигуры?
Произведениям Бутусова посвящено обилие театрально-критических статей, при этом устройство их внутреннего мира с присущими ему законами остается неизученным. Задачу исследования этих законов не ставила перед собой в том числе и автор книги о творчестве режиссёра Е.И. Горфункель, которая определила свой труд как «дневник зрителя» или «свободный рассказ о театре Бутусова» [Горфункель, 2024, с. 2, 5].
Сценография Александра Шишкина в «Дяде Ване» – еще один ключевой аспект, заслуживающий внимания. Критики описывают ее то как «картонный домик», то как «больничный коридор», что указывает на множественность интерпретаций. В контексте выставок и инсталляций подобные пространственные решения можно рассматривать как художественные высказывания, где материальность декораций становится частью нарратива. Сравнение с «детским рисунком» или «кукольным театром» отсылает к теориям игрового пространства, разработанным в сценографии, а также к психоаналитическим концепциям, исследующим связь между визуальным образом и подсознанием. Таким образом, сами решения спектакля указывают на начальную сложность проблем, с которыми сталкиваются критики.
Высказывания о спектакле в целом, его оценки и представления о его соотношении с пьесой А.П. Чехова «Дядя Ваня»
Первое, что бросается в глаза при прочтении рецензий, это разительно отличающиеся друг от друга высказывания критиков, связанные с оценкой спектакля в целом, его эмоциональным восприятием, а также с пониманием соотношения пьесы и спектакля.
«Пожалуй, никто так честно и так больно не смог рассказать историю усадьбы Войницких и её обитателей, как Юрий Бутусов», – пишет, например, Н. Яковлева [Яковлева, 2023].
Не менее эмоционально высказался и Е. Авраменко, считающий что «Дядя Ваня» Бутусова «звучит свежо и сильно» [Авраменко, 2017, Известия]. Он признается, что не готов назвать какое-то из сценических воплощений этой чеховской пьесы как минимум предшествующих театральных сезонов, где от происходящего на сцене у него так саднило душу «горечью позднего прозрения и пронзительной чувственностью», как произошло при просмотре спектакля Бутусова. Режиссура, добавляет критик, заставила по-другому взглянуть и в целом на автора пьесы. «Какой, оказывается, бунтарски-отчаянный, обжигающий, но и нежный был Антон Павлович Чехов», – восклицает он.
Произведением, в котором он увидел узнаваемый театр Бутусова, «небезупречный» и в этой «своей сценической реализации» [Кириллов, 2017], но при этом произведением живым, выразительным, сильным, символически насыщенным, концептуально зрелым и единым, пронзительно современным, обращенным к небу и человеку, сквозящим чеховскими коннотациями назвал спектакль А. Кириллов. По мнению критика, в нем режиссёр сценически воплотил не пьесу, а вызванные ею собственные переживания и ощущения; при этом текст пьесы прочитан Бутусовым внимательно и остро пережит; поэтому в спектакле «не иссякают прямые связи с “классическим” Чеховым». А вступив в диалог с авторами рецензий, которые обвиняли режиссёра за отсутствие новизны в сценическом воплощении чеховской пьесы в эстетике абсурда, он назвал надуманными сами размышления о новизне или устарелости такого взгляда на драматургию Чехова, заявив, что в случае бутусовского «Дяди Вани» этот взгляд «оригинален, индивидуален, художественен и эстетически оправдан» и подчеркнув, что имеет в виду оправдание, связанное не с «соображениями преемственных связей Чехова и абсурда», а с прочтением чеховской пьесы современным талантливым режиссёром, как он назвал Ю. Бутусова. При этом рецензент отметил, что режиссёр углубляет «программную абсурдность происходящего» в спектакле, в частности, тем, что передает реплики не вошедших в спектакль персонажей пьесы действующим на сцене героям.
На взгляд Г. Коваленко, режиссёр прочитал Чехова «сквозь призму Достоевского» и превратил классическую семейно-психологическую драму, как она характеризует пьесу, «в современную трагедию». «Дядя Ваня» Бутусова, по мнению рецензента явился этапом «не только в творчестве режиссёра, но и в театральной чеховиане XXI века» [Коваленко, 2017].
В свою очередь, А. Ветлинская назвала спектакль сложносочиненным произведением, вероятно, не посчитав при этом нужным конкретизировать, что имеется в виду. Кроме того, по мнению критика, в спектакль надо «погружаться как в сон, отключаясь от реальной жизни» [Ветлинская, 2017]. Причем она отметила, что оба свойства характерны и для других постановок режиссёра. А рассматривая театр как явление, способное дарить зрительское счастье, рецензент заявила, что «Дядя Ваня» Бутусова, как и остальные его работы, такой способностью наделен сполна.
Совсем другие чувства вызвал спектакль у М. Дмитревской. Критик восприняла его выматывающим своим ритмическим однообразием и довольно длинным. Звучащий в нем текст рецензент охарактеризовала и просто изводящим, совсем непереносимым для восприятия, уверяя даже, что он здесь «не нужен». К тому же в спектакле «явно не хватает свежих театральных соображений», а также в нем «много общих мест», пишет она, не приводя, к сожалению, ни одного примера таковых [Дмитревская, 2017].
А Л. Дубшан и вовсе сравнил сценическое воплощение Бутусовым чеховской пьесы с комическим трешем. Помимо того, критик задается вопросами: не приводят ли осуществленные режиссёром «усиление и укрупнение» смыслов чеховской пьесы, напротив, к их размыванию, не является ли более сильным «естественное чеховское “под сурдинку” и не выходит ли, что сценическая реализация присущего пьесе абсурдизма «уже слишком знакома, затаскана сотнями менее талантливых ниспровергателей? Срабатывает ли она в принципе?» [Дубшан, 2017].
Со своей стороны, М. Кингисепп увидела спектакль Бутусова кривоватым и смешным наподобие незамысловатых детских каляк-маляк и одновременно язвительным и устрашающим, назвав его и комиксом для взрослых, и роковым предзнаменованием «крушения всех идеалов до основанья» [Кингисепп, 2017].
Трактовки сценографии
Среди отдельных составляющих спектакля, в первую очередь привлекших внимание рецензентов, оказалась сценография Александра Шишкина, которая также получила весьма разнообразные интерпретации. «Павильон <…> для игры актеров», лишенный каких-либо особенностей, которые бы указывали на время происходящих в нем событий, увидел на сцене Е. Авраменко. А открытая, демонстративная условность, «понарошечность» сценографической установки даже побудила критика сравнить ее с материализовавшимся детским рисунком [Авраменко, 2017, Санкт-Петербургские ведомости].
В свою очередь, Н. Яковлева колеблется в определении творения сценографа, назвав его то ли картонным домиком, то ли больницей, то ли собственно декорацией [Яковлева, 2023].
Л. Лучкин называет создание Шишкина то условным кукольным жилищем, сделанным из обувной коробки; то непригодной для жизни трехстенной комнатой из картона с нарисованными и реальными дверями, над отдельными из которых написаны имена владельцев помещений, находящихся за этими дверями. Причем в распахивающихся дверных проемах «видны захламленные <…> узкие коридоры», – добавляет он [Лучкин, 2017].
Ряд критиков толкуют создание сценографа однозначно. Так, по мнению А. Кириллова, на сцене представлен картонный, вечно ремонтируемый дом [Кириллов, 2017].
Н. Стоева трактует сценографическую конструкцию как нарисованный коридор. Критик колеблется: коммунальный он или больничный, но уверена, что изображен именно коридор. И, судя по всему, это обстоятельство во многом определило восприятие рецензентом спектакля в целом и его героев. Автор статьи так и пишет: поместив героев-«неудачников» в коридор и заявив, что их жизнь проходит «не на ветру, не на сквозняке, а в коридоре» [Стоева, 2017], режиссёр сразу раскрыл все карты.
В свою очередь, М. Дмитревская полагает, что на сцене с помощью шатких стен из беленого картона сооружена белая-белая больничка со множеством дверей, над которыми – надписи с указанием пациентов, находящихся за каждой из них [Дмитревская, 2017].
Встретилось и следующее впечатление от сценографии: «Оторопь берет с момента <…> лицезрения декораций <…>, которые и декорациями не назовешь – так, белые ставки, собранные в виде картонного домика. Окон нет, лишь нарисованные двери, вверху указаны имена действующих лиц» [Лебедина, 2018]. Судя по всему, автор этого суждения по непонятной причине ожидал увидеть на сцене непременно реальное изображение усадьбы.
Интерпретации героев спектакля
Но в центре внимания критиков оказались именно суждения о героях спектакля, которые предстали не менее разнообразными, чем трактовки сценографии.
Так, в глазах Н. Яковлевой [Яковлева, 2023] они выглядят людьми с вывернутой наизнанку душой. Трезвый ум сохранить сложно, когда у тебя рушится жизнь, считает рецензент и даже пытается поставить диагноз некоторым героям, называя, например, безответную любовь Сони, роль которой исполняет Ольга Муравицкая (всюду указаны актеры, игравшие на премьере), болезнью героини; Серебряков (Сергей Мигицко), который «носит самовар и швыряет шваброй в невидимых крыс», страдает, по словам критика, тихим безумием, возникшим «от невозможности изменить свою жизнь». В свою очередь, Телегина (Сергей Перегудов), основываясь на том, что тот, якобы не в силах нормально передвигаться и потому нередко стелется по полу (автор пластики героев – Николай Реутов), автор рецензии определяет пьяницей и наркоманом, видимо, опуская из виду, что герою, кроме того, свойственна и сложнейшая пластика, которую осилит разве что хорошо подготовленный спортсмен (и, разумеется, мастерски владеющий своим телом актер). При этом дядя Ваня называется в статье милым, добрым, безнадежно влюбленным человеком, чья любовь к Елене Андреевне светла и чиста. А его взнервленную пластику, описанную в рецензии оборотом «резко дёргает руками, стучит ногами», – критик воспринимает как проявление бьющейся души дяди Вани.
Со своей стороны, Е. Авраменко определяет этого героя «маленьким человеком», несостоявшимся и неудачливым, показанным Александром Новиковым с любовью и нежным трагизмом [Авраменко, 2017, Санкт-Петербургские ведомости]. А говоря в целом о героях спектакля, критик оказался едва ли не единственным, кто отметил их масочность, так что «сущность каждого ощущается сразу целиком».
Лишенными и души, и способности осознавать свою жизнь увидел всех героев спектакля, за исключением одного, А. Кириллов, который описал их как механических кукол. Исключением рецензент назвал Астрова (Евгений Филатов), который, по его словам, «просто “не получился”» и предстал самоуверенным отвлеченным резонером. Все остальные сценические персонажи, показанные критиком в виде механических марионеток, пребывают, как он пишет, в неудобном и некомфортном пространстве и живут так, как жить неудобно и некомфортно: «c навязчивыми и навязанными им движениями», следуя навязчивым и навязанным им ритмам. Однако дискомфорта, по мнению рецензента, они не осознают, «почти бесстрастно следуя» таким ритмам, и не замечают странности своей жизни [Кириллов, 2017]. Самым потерянным и бесхребетным из них является, на взгляд критика, Телегин, который, неоднократно предстает, например, перекинутым, подобно тряпичной кукле, через стену-ширму. Причиной того, что герой не стоит на ногах, критик считает не только пьянство, но, в первую очередь, отсутствие у него «основы, <…> скелета», поясняя, что тот «“приживал” не только в усадьбе Серебрякова, но и в масштабе существования, бытия». Дергающегося, по словам рецензента, и бьющего отчаянную чечетку дядю Ваню он воспринял марионеткой, будто подвешенной на невидимой нити. Критик сомневается, что этот герой мог бы стать Достоевским, а тем более Шопенгауэром, но уверен, что тот живет «в густой атмосфере Достоевского» и при этом олицетворяет чеховское выражение «человек в футляре». Герой и «умрет, как жил», когда у него «кончится завод» и «разрядится батарейка», поясняет рецензент. Но, так представив дядю Ваню, он одновременно пишет о трагедии, состоящей в том, «что механическим монстром был живой человек, изъятый из человеческой жизни», подобно другим персонажам. Соне, которую критик назвал курицей, машущей «руками-крыльями», он отказал и в нежности, и во всепрощении. Елена Андреевна (Наталья Шамина) представлена в его статье куклой-Еленой, которая споткнулась, когда дрогнула рука кукловода. Не просто скользящей по сцене марионеткой, а мультяшным персонажем рецензент определил Серебрякова, уточнив, что это «профессор-авантюрист, гений проектов и прожектов». Говоря о сценических героях в целом, критик акцентирует, что «сумасшедшего дома» и, соответственно, его пациентов в «Дяде Ване» Бутусова он «не увидел совсем», вступая тем самым в диалог с придерживающимися подобной точки зрения другими авторами откликов на этот спектакль режиссёра.
С пациентами сумасшедшего дома, которые больны разными заболеваниями и сошлись в общей комнате, сравнила действующих лиц спектакля Н. Стоева. При этом критик утверждает, что режиссёр не ставит диагнозы. Бутусова, по ее мнению, волнует, что герои свою жизнь не жили, а мучились, они ее «профукали, прострадали, <…>, а теперь ничего не вернешь» [Стоева, 2017]. Описывая Войницкого милым улыбчивым, пожирающим «преданными глазами» Елену, называя его серьезным человеком, над которым якобы «принято подшучивать», и простаком, автор статьи настаивает, что этот герой здесь не Иван Петрович, а «именно Ваня», и определяет его как заправского пыльного бухгалтера. Такому «пыльному Ване», пишет она, невозможно «не то что быть счастливым», но и «просто жить». Описав Соню возрастной, омертвелой, «с гримасой страдания», критик утверждает, что та «тоже не жилец».
Психически нездоровыми восприняла героев спектакля и М. Дмитревская: к примеру, Серебрякова – маниакальным писакой; Соню – сошедшей с ума потому, что та не знала, как к ней относится Астров; Астрова, которого критик сравнила с шизофрениками, которые очень часто становятся прекрасными художниками-абстракционистами, – забрызганным красками рисующим картину уезда безумцем-живописцем, беспорядочно использующим краски; Вафлю – припадочным эпилептиком, который, дергаясь на полу, якобы «смотрит мутным глазом» [Дмитревская, 2017]. Причем у этих пациентов психбольницы, как критик назвала сценических персонажей, по ее словам, чередуются периоды ремиссии с приступами двигательной активности. Например, колотится о стены Соня, не находя себе места; «заходится в танцевальных тиках» с болезненными движениями Войницкий, чья болезнь к тому же «осложнена <…> непростым внутренним миром», пишет рецензент, поясняя это тем, что герой «нет-нет, да и взметнет вверх руку и прокричит: “Дорогая моя! Чудная!”».
Герои спектакля – притворные водевильные персонажи с картонными чувствами, не заслуживающие ни жалости, ни снисхождения, полагает, в свой черед, Л. Лебедина [Лебедина, 2018]. Герои, на ее взгляд, не борются за свое достоинство и считают виновными лишь обстоятельства, в которых оказались. В то же время автор статьи пишет, что «куда ни глянь – всюду <…> самоедство»; в, частности, грызет себя и дядя Ваня. Этот герой, по ее мнению, злобен, ненавидит всех и вся. Вообще о любви, утверждает рецензент, в спектакле нет речи, поскольку здесь «каждый занят собой». При этом завершение спектакля автор статьи восприняла как обнадеживающее. Основываясь на том, что Соня, сокрушив стены дома, в последнем эпизоде «берет из опустившихся рук дяди Вани портфель и молча смотрит в зрительный зал», критик уверяет, что эта героиня символизирует «будущее уважающего себя человека», который построит вместо времянки хороший дом. При этом автор рецензии словно забывает о том, что рассуждения о событиях, которые могут произойти после финала художественного произведения, не имеют к самому произведению никакого отношения.
По мнению Л. Лучкина, действующие лица спектакля – это «актеры-куклы», являющиеся участниками сеанса терапии, который устроила Софья Александровна Серебрякова, чтобы расстаться «с болезненными воспоминаниями» [Лучкин, 2017]. И если у Чехова болен лишь Серебряков с его ревматизмом и другими недугами, то на сцене, утверждает критик, болезненно-бледная Соня якобы мучается головной болью; Иван Войницкий, оказавшийся здесь «влюбленным горбуном», сражается «с прогрессирующей болезнью Паркинсона»; а «выпивоха Телегин» не в состоянии держать осанку. Пластика этих героев воспринята рецензентом как странные танцевальные соло под громкую музыку, уподобляющие Соню «инерционной фигуре курицы, вращающей при движении крыльями»; Войницкого – заводной лягушке, неуклюже отстукивающей чечетку; а Телегина – игрушке, которая «либо подпирает углы и дверные косяки, либо конвульсивно дергается на полу». При этом все сценические персонажи, пишет автор статьи, вызывают симпатию.
Людьми, переживающими внутренние драмы, предстают сценические персонажи в рецензии Е. Горфункель [Горфункель, 2017]; исключение, по ее словам, составляют Серебряков и Елена Андреевна, которых они минуют. Предприняв попытку описать героев, используя особенности разных жанров, критик называет, например, их движения пластическим балетом. Танцуют, по ее словам, кроме доктора, все. Причем танцуются, уточняет рецензент, «не бальные танцы, а состояния души и тела». При этом, отметив наиболее трудными как для исполнения, так и для восприятия, танцы Сони и Войницкого, она умалчивает о том, какие именно, на ее взгляд, состояния души и тела танцуются этими героями. Основываясь на подробностях костюмов, в которых предстает Соня в ходе спектакля и в его финале, рецензент утверждает, что та якобы «хочет вытанцеваться в кукольную принцессу». Мало того, автор статьи приходит к заключению, что в итоге героине это удается. Причем свое утверждение критик поясняет тем, что в последней сцене Соня появляется в нарядном белом платьице, пусть и нелепо сидящем на ней и к тому же не гармонирующем с ее грубыми ботинками (художник по костюмам – Фагиля Сельская). Трактуя танец Войницкого, она утверждает, будто тот «в судорогах <…> тела пытается вырваться из футляра-пиджака с горбом», предполагая, что герой это делает, «чтобы примерить образы-футляры Шопенгауэра и Достоевского», которые представлены в программке спектакля. В свою очередь, музыкальная драма обнаруживается автором статьи в том, что каждому герою соответствует определенный лейтмотив, проходящий через спектакль таким, как он задан в первом эпизоде. А определяя спектакль представлением «с куклами и клоунами», Телегина, например, критик называет гуттаперчевой тряпичной куклой; Серебрякова – плачущим клоуном с нарочито изломанной и грубой пластикой, которая передает его внутреннее беспокойство и неустройство; Войницкого – злым горбуном, шутом «гороховым» с его нарочито изломанной и грубой пластикой, передающей внутреннее беспокойство и неустройство героя; а Елену Андреевну с ее «ласкающим голоском и гибкими руками лукавой змейки» – искусственнейшей и самой яркой из кукол.
«Горбун, ничтожная, опустившаяся, скрюченная личность», с чавканьем поедающая дрова и остервенело бьющая в барабаны. Такую характеристику дяде Ване дает, опуская аргументы, М. Кингисепп [Кингисепп, 2017]. А в целом действующие лица спектакля восприняты ею больными «душевно и физически», пораженными душевной слепотой и глухотой, полной дезориентацией в пространстве и к тому же отягощенными навязчивыми идеями и фобиями.
Главный персонаж спектакля – Мысль (именно так, с прописной буквы – О. М.), носителями которой являются Войницкий и Астров, – полагает Г. Коваленко [Коваленко, 2017]. По мнению критика, на первом плане этого произведения Бутусова – именно «философские дискуссии протагонистов»; что касается героинь, заблудившейся в жизни Елены и страдающей от неразделенной любви Сони, как те характеризуются в статье, – они «разве что иллюстрируют» споры героев. Возражая утверждению Астрова о том, что обывательская жизнь сделала их с дядей Ваней пошляками, рецензент пишет, что происходящее на сцене опровергает это. По ее мнению, жизнь двух этих героев «не состоялась по разным причинам», главной из которых является присущая им «жажда мысли», в то время как общество выдавливает таких людей. В этом критик видит их личную трагедию и трагедию общества. Однако в статье умалчивается, на какие именно сценические реалии опирается ее автор, выдвигая такой тезис.
А. Ветлинская назвала всех персонажей спектакля несчастными людьми. Сразу зафиксировав, что Александр Новиков при воплощении Войницкого берет трагедийные вершины, критик утверждает, что его герой предстает то клоуном, то юродивым, то философом, то просто маленьким несчастным человеком, жизнь которого не удалась и который, по ее мнению, действительно, мог бы быть Достоевским, «а вместо этого <…> занимался <…> рутинным трудом» [Ветлинская, 2017]. Ветлинская явилась едва ли не единственным из рецензентов, кто рассмотрел в Телегине вовсе не второстепенного, как у Чехова, а одного из главных героев «Дяди Вани» Бутусова. Она восприняла Илью Ильича человеком, который переживает душевные страдания, духовную и физическую «ломку», о чем свидетельствуют, по словам рецензента, особенности пластики и движений героя, в частности, то, что он «то корчится на полу, то лезет на стены».
Оценки игры актеров
Рецензенты, обратившие внимание на качество игры актеров, оказались почти единодушны в ее оценке, отметив при этом и их мастерство, и то, что режиссёр смог обнаружить неожиданные грани их талантов.
От раскрывшихся в спектакле по-новому знакомых актеров порой не отвести глаз – лаконично зафиксировал, например, Е. Авраменко [Авраменко, 2017, Известия].
О глубоком и порой неожиданном раскрытии актеров в работе с Бутусовым, случившемся в его «Дяде Ване», заметив, что так происходит и в других спектаклях этого режиссёра, пишет А. Кириллов, отдельно выделивший подобную неожиданность в блестящем трагикомическом исполнении роли Войницкого А. Новиковым, названным критиком «безусловным “корифеем” спектакля» [Кириллов, 2017].
А. Ветлинская назвала игру А. Новикова, который, по ее мнению, оставаясь в своем острохарактерном амплуа, воплощает роль Войницкого, поражая, о чем уже упоминалось по другому поводу, взятыми им трагедийными вершинами, – не просто актерской удачей, а подвигом. Кроме того, считая, что Е. Филатов блестяще сыграл роль Астрова, представшего в спектакле роковым мужчиной, критик отметила и выход из устоявшегося амплуа этого актера, которого, по ее словам, «прекрасно можно представить в роли Карлсона» [Ветлинская, 2017]. А говоря о бутусовском «Дяде Ване» в целом, рецензент утверждает, что спектакль демонстрирует, «как должны играть большие актеры». поэтому его «стоит в обязательном порядке показывать студентам театральных вузов».
Не приняв спектакль в целом, М. Дмитревская также отметила актеров, играющих «под руками Бутусова <…> по-новому», как она выразилась. Критик, как и другие авторы рецензий, особо выделила при этом А. Новикова, который стал, по ее слову, «открытием», утверждая, что мы увидели рождение актера «настоящего драматического дара, да еще осложненного отсутствием сентиментальности», присущей актерам-комикам» [Дмитревская, 2017].
Мнения о композиции спектакля
Нашлись рецензенты, коснувшиеся строения спектакля. При этом некоторые из них использовали слова «монтирование» или «монтаж», что по отношению к спектаклю Бутусова вполне правомерно. Другое дело, что далеко не всегда ясно, какой именно смысл этих слов имел в виду конкретный рецензент.
Так, А. Кириллов пишет, что в «Дяде Ване» репризность, которая, по его мнению, была присуща предыдущим спектаклям режиссёра, «уступила место более крупной композиционной форме зрелого монтажа» [Кириллов, 2017], не пояснив при этом, что он подразумевает под более крупной композиционной формой и под «зрелым монтажом».
Утверждение М. Кингисепп, которая, назвав спектакль «театральной кинолентой», пишет, что он смонтирован «на манер экспериментальных короткометражек» [Кингисепп, 2017], – тоже вызывает вопрос, поскольку в короткометражках, как и в полнометражных фильмах, могут быть использованы разные типы монтажа.
Рваной композицией, собранной «из обломков разрушенной пьесы методом “поэтического монтажа”» [Авраменко, 2017, Известия], – в свою очередь, определил строение спектакля Е. Авраменко. Почему такая композиция названа рваной, из статьи осталось неясным. Правда, если принять во внимание использование в поэтическом монтаже связей по ассоциации, а также суждение критика в другой его рецензии на «Дядю Ваню» Бутусова, где он пишет, что спектакль построен из резко стыкующихся фрагментов «разломанной пьесы» [Авраменко, 2017, Санкт-Петербургские ведомости], то можно предположить, что рецензент имеет в виду композицию, основанную на ассоциативных связях по контрасту. Тем не менее, вряд ли, корректно называть такую композицию рваной, поскольку драматическое действие в спектакле с композицией, основанной на ассоциативных связях любого типа, непрерывно, как и драматическое действие в спектакле с композицией, созданной на основе причинно-следственных связей.
Суждения о содержании спектакля
Сформулировать содержание спектакля попытались также немногие из рецензентов. Н. Яковлева представила его, о чем уже говорилось по другому поводу, как «историю усадьбы Войницких и её обитателей», которые, в отличие от чеховских персонажей, «страдают открыто» [Яковлева, 2023].
С точки зрения Е. Авраменко, спектакль «об отчаянных попытках «перерисовать» жизнь» [Авраменко, 2017, Известия].
На взгляд Л. Лебединой, он «о людях, обиженных на все и вся, неспособных признать, что сами отказались бороться за собственное достоинство, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства» [Лебедина, 2018].
По мнению А. Кириллова, этот спектакль «о человеческой несвободе и невозможности самореализации» [Кириллов, 2017].
Весьма неконкретное суждение о содержании спектакля высказала Г. Коваленко, написав, что в нем «поставлены вечные русские вопросы – кто виноват и что делать?» [Коваленко, 2017].
По словам М. Дмитревской, «если искать в спектакле какой-то смысл, поддающийся вербализации, то получится, что в картонной дурке жить куда правильнее и интереснее, чем в темном не отапливаемом мире за пределами сумасшедшего дома» [Дмитревская, 2017].
Содержание бутусовского «Дяди Вани» как содержание спектакля драматического театра, то есть в виде противоречия, оказалось предложено лишь в статье Л. Лучкина, который увидел в этом произведении режиссёра противостояние двух групп героев. Одних он условно назвал «работающими» или «радетелями исполнения долга», других – «неработающими». Первые, по словам автора статьи, согласно Бутусову, учитывающему безжалостный тренд времени, – подобные чуткому и трогательному дяде Ване, рефлексирующему, кроткому и нерешительному, который приложил «немало усилий ради общего блага», погибают «в дорожной пыли», а вторые, хваткие, циничные, умелые манипуляторы, такие, как профессор – неустанно следуют вперед. В то же время, парадоксально утверждает критик, Соня «победит», хотя, пишет он, вместо «неба в алмазах» впереди у нее уныние, тоска «и никакого милосердия». Кроме того, как видим, критик здесь, подобно одному из уже упомянутых авторов рецензий, позволил себе некорректное суждение о том, что случится после окончания спектакля.
Заключение
Подводя итоги, следует зафиксировать, что рецензенты оценили спектакль в целом, а также игру занятых в нем актеров; предложили интерпретации сценографии и трактовки сценических героев; высказали суждения о композиции и содержании сценического целого. При этом не был определен тип композиции спектакля. Вне поля внимания авторов статей осталось и становление содержания спектакля в процессе формирования драматического действия. В результате остался не выявлен и тип театра, по законам которого создан спектакль.
«Дядя Ваня» Юрия Бутусова – это спектакль, который выходит за рамки театральной постановки, становясь объектом исследования для теории искусства, кинематографа, сценографии и психологии творчества. Анализ спектакля «Дядя Ваня» Юрия Бутусова и его рецепции критиками позволяет сделать несколько важных выводов, значимых не только для театроведения, но и для теории искусства в целом.
Сценография Шишкина в «Дяде Ване» может рассматриваться как самостоятельное художественное высказывание, находящееся в диалоге с современными выставками и инсталляциями. Картонный дом, больничный коридор, кукольное пространство – все эти образы работают на создание универсальной метафоры хрупкости человеческого существования. В контексте теории искусства это позволяет говорить о театре Бутусова как о форме site-specific art, где пространство становится активным участником действия.
Полярность критических оценок спектакля свидетельствует о его сложной природе, которая не укладывается в привычные рамки «традиционного» или «авангардного» театра. Одни видят в нем «пронзительную чувственность», другие – «механистичность» и «абсурд». Эта амбивалентность делает бутусовский театр особенно интересным для психологии искусства, где важны не только объективные характеристики произведения, но и субъективные механизмы его восприятия. Почему одни зрители испытывают катарсис, а другие – раздражение? Как сценография и ритм влияют на эмоциональный отклик? Эти вопросы требуют дальнейшего исследования, которого пока нет в отзывах критиков. Бутусовская трактовка чеховских персонажей открывает новые возможности для анализа психологии персонажа в современном театре. Его герои – не просто «люди в футлярах», а марионетки, клоуны, пациенты психиатрической клиники – отражают не только социальные, но и экзистенциальные проблемы. В этом смысле спектакль перспективно будет рассматривать через призму психоанализа, где каждый жест, каждая пластическая деталь становятся символами внутреннего конфликта.
ИСТОЧНИКИ
1. Авраменко Е. В театре имени Ленсовета нарисовали «Дядю Ваню» // Известия. 2017. 4 апр. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/v-teatre-imeni-lensoveta-narisovali-dyadyu-vanyu/ (дата обращения: 28.03.2025).
2. Авраменко Е. Изменить судьбы рисунок // Санкт-Петербургские ведомости. 2017. 6 апр. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/izmenit-sudby-risunok/ (дата обращения: 28.03.2025).
3. Ветлинская А. «Дядя Ваня» в Театре им. Ленсовета: мастер-класс для начинающих // Intéressant: Петербургский интернет-журнал. 2017. 8 апр. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/dyadya-vanya-v-teatre-im-lensoveta-master-klass-dlya-nachinayushhix/ (дата обращения: 03.03.2025).
4. Горфункель Е. Соня, Ваня, доктор… // Петербургский театрал. 2017. № 3 (май). Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/sonya-vanya-doktor/ (дата обращения: 24.04.2025).
5. Дмитревская М. Пролетая над гнездом Войницких, или «Дядя Ваня», представленный актерской труппой госпиталя в Шарантоне… // Блог Петербургского театрального журнала. 2017. 4 апр. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/blog/dyadya-vanya-yuriya-butusova-vteatre-im-lensoveta/ (дата обращения: 07.05.2025).
6. Дубшан Ф. Терпи, дядя, терпи! // Вечерний Санкт-Петербург. 2017. 5 апр. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/terpi-dyadya-terpi/ (дата обращения: 02.05.2025).
7. Кингисепп М. Дядя Рокер // INFOSKOP. 2017. № 236 (май). Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/dyadya-roker/ (дата обращения: 24.04.2025).
8. Кириллов А. Шесть персонажей в ожидании режиссёра, или чеховские марионетки Юрия Бутусова // Петербургский театральный журнал. 2017. № 3(89). С. 93-96.
9. Коваленко Г. Чеховиана XXI века // Независимая газета. 2017. 11 апр. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/chexoviana-xxi-veka/ (дата обращения: 02.05.2025).
10. Лебедина Л. «Дядя Ваня», только не тот // Страстной бульвар, 10. 2018. № 6. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/dyadya-vanya-tolko-ne-tot/ (дата обращения: 31.03.2025).
11. Лучкин Л. Чудаки Юрия Бутусова // Экран и сцена. 2017. 12 мая. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/chudaki-yuriya-butusova/ (дата обращения: 31.03.2025).
12. Стоева Н. «Дядя Ваня» Юрия Бутусова в Театре им. Ленсовета // Блог Петербургского театрального журнала. 2017. 4 апр. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/blog/dyadya-vanya-yuriya-butusova-vteatre-im-lensoveta/ (дата обращения: 07.05.2025).
13. Яковлева Н. Пропала жизнь // Около: Арт-журнал. 2023. 9 дек. Режим доступа: https://ptj.spb.ru/pressa/propala-zhizn-2/ (дата обращения: 30.03.2025).
ЛИТЕРАТУРА
1. Горфункель Е.И. Юрий Бутусов. Балаган на руинах. – Санкт-Петербург: Порядок слов, 2024.
1. Avramenko E. “Izmenit’ sud’by risunok” [To Change Fate’s Drawing]. Sankt-Peterburgskie vedomosti. 2017. April 6. Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/izmenit-sudby-risunok/ (accessed: 28.03.2025). (in Russian)
2. Avramenko E. “V teatre imeni Lensoveta narisovali ‘Dyadyu Vanyu’” [“Uncle Vanya” Drawn at the Lensovet Theatre]. Izvestiya. 2017. April 4. Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/v-teatre-imeni-lensoveta-narisovali-dyadyu-vanyu/ (accessed: 28.03.2025). (in Russian)
3. Dmitrevskaya M. “Proletaya nad gnezdom Voynitskikh, ili ‘Dyadya Vanya’, predstavlennyy akter·skoy truppoy gospitalya v Sharantone…” [Flying Over the Voinitskys’ Nest, or “Uncle Vanya” Performed by the Actor’s Troupe of the Charenton Asylum…]. Blog Peterburgskogo teatral’nogo zhurnala. 2017. April 4. Available at: https://ptj.spb.ru/blog/dyadya-vanya-yuriya-butusova-vteatre-im-lensoveta/ (accessed: 07.05.2025). (in Russian)
4. Dubshan F. “Terpi, dyadya, terpi!” [Endure, Uncle, Endure!]. Vecherniy Sankt-Peterburg. 2017. April 5. Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/terpi-dyadya-terpi/ (accessed: 02.05.2025). (in Russian)
5. Gorfunkel’ E. “Sonya, Vanya, doktor…” [Sonya, Vanya, the Doctor…]. Peterburgskiy teatral. 2017. No. 3 (May). Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/sonya-vanya-doktor/ (accessed: 24.04.2025). (in Russian)
6. Kingisepp M. “Dyadya Roker” [Uncle Rocker]. INFOSKOP. 2017. No. 236 (May). Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/dyadya-roker/ (accessed: 24.04.2025). (in Russian)
7. Kirillov A. “Shest’ personazhey v ozhidanii rezhissera, ili chekhovskie marionetki Yuriya Butusova” [Six Characters in Search of a Director, or Chekhov’s Puppets by Yuri Butusov]. Peterburgskiy teatral’nyy zhurnal. 2017. No. 3(89). P. 93-96. (in Russian)
8. Kovalenko G. “Chekhoviana XXI veka” [Chekhoviana of the 21st Century]. Nezavisimaya gazeta. 2017. April 11. Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/chexoviana-xxi-veka/ (accessed: 02.05.2025). (in Russian)
9. Lebedina L. “‘Dyadya Vanya’, tol’ko ne tot” [“Uncle Vanya”, But Not the One You Know]. Strastnoy bul’var, 10. 2018. No. 6. URL: https://ptj.spb.ru/pressa/dyadya-vanya-tolko-ne-tot/ (accessed: 31.03.2025). (in Russian)
10. Luchkin L. “Chudaki Yuriya Butusova” [The Eccentrics of Yuri Butusov]. Ekran i stsena. 2017. May 12. Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/chudaki-yuriya-butusova/ (accessed: 31.03.2025). (in Russian)
11. Stoeva N. “‘Dyadya Vanya’ Yuriya Butusova v Teatre im. Lensoveta” [Yuri Butusov’s “Uncle Vanya” at the Lensovet Theatre]. Blog Peterburgskogo teatral’nogo zhurnala. 2017. April 4. Available at: https://ptj.spb.ru/blog/dyadya-vanya-yuriya-butusova-vteatre-im-lensoveta/ (accessed: 07.05.2025). (in Russian)
12. Vetlinskaya A. “‘Dyadya Vanya’ v Teatre im. Lensoveta: master-klass dlya nachinayushchikh” [“Uncle Vanya” at the Lensovet Theatre: A Masterclass for Beginners]. Intéressant: Peterburgskiy internet-zhurnal. 2017. April 8. Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/dyadya-vanya-v-teatre-im-lensoveta-master-klass-dlya-nachinayushhix/ (accessed: 03.03.2025). (in Russian)
13. Yakovleva N. “Propala zhizn’” [Life Is Lost]. Okolo: Art-zhurnal. 2023. December 9. Available at: https://ptj.spb.ru/pressa/propala-zhizn-2/ (accessed: 30.03.2025). (in Russian)
REFERENCES
1. Gorfunkel’ E.I. Yurij Butusov: Balagan na ruinakh [Yuri Butusov: Farce on the Ruins]. Saint Petersburg, Poryadok slov, 2024. (in Russian)
О журнале
- История журнала
- Редакционный совет и редакционная коллегия
- Авторы
- Этические принципы
- Правовая информация
- Контакты
Авторам
- Регламент принятия и рассмотрения статьи
- Правила оформления статьи
- Правила оформления сносок
- Правила оформления списка литературы
Номера журналов
- Артикульт-58 (2-2025)
- Артикульт-57 (1-2025)
- Артикульт-56 (4-2024)
- Артикульт-55 (3-2024)
- Артикульт-54 (2-2024)
- Артикульт-53 (1-2024)
- Артикульт-52 (4-2023)
- Артикульт-51 (3-2023)
- Артикульт-50 (2-2023)
- Артикульт-49 (1-2023)
- Артикульт-48 (4-2022)
- Артикульт-47 (3-2022)
- Артикульт-46 (2-2022)
- Артикульт-45 (1-2022)
- Артикульт-44 (4-2021)
- Артикульт-43 (3-2021)
- Артикульт-42 (2-2021)
- Артикульт-41 (1-2021)
- Артикульт-40 (4-2020)
- Артикульт-39 (3-2020)
- Артикульт-38 (2-2020)
- Артикульт-37 (1-2020)
- Артикульт-36 (4-2019)
- Артикульт-35 (3-2019)
- Артикульт-34 (2-2019)
- Артикульт-33 (1-2019)
- Артикульт-32 (4-2018)
- Артикульт-31 (3-2018)
- Артикульт-30 (2-2018)
- Артикульт-29 (1-2018)
- Артикульт-28 (4-2017)
- Артикульт-27 (3-2017)
- Артикульт-26 (2-2017)
- Артикульт-25 (1-2017)
- Артикульт-24 (4-2016)
- Артикульт-23 (3-2016)
- Артикульт-22 (2-2016)
- Артикульт-21 (1-2016)
- Артикульт-20 (4-2015)
- Артикульт-19 (3-2015)
- Артикульт-18 (2-2015)
- Артикульт-17 (1-2015)
- Артикульт-16 (4-2014)
- Артикульт-15 (3-2014)
- Артикульт-14 (2-2014)
- Артикульт-13 (1-2014)
- Артикульт-12 (4-2013)
- Артикульт-11 (3-2013)
- Артикульт-10 (2-2013)
- Артикульт-9 (1-2013)
- Артикульт-8 (4-2012)
- Артикульт-7 (3-2012)
- Артикульт-6 (2-2012)
- Артикульт-5 (1-2012)
- Артикульт-4 (4-2011)
- Артикульт-3 (3-2011)
- Артикульт-2 (2-2011)
- Артикульт-1 (1-2011)
- Отозванные статьи
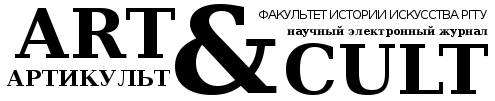
.png)