Н.А. ЦЫРКУН Трансфигурация чеховских мотивов в фильмах Вуди Аллена
ТРАНСФИГУРАЦИЯ ЧЕХОВСКИХ МОТИВОВ В ФИЛЬМАХ ВУДИ АЛЛЕНА
Научная статья
УДК 791.43-2+821.161.1
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-104-115
Дата поступления: 28.05.2025. Дата одобрения после рецензирования: 10.07.2025. Дата публикации: 25.10.2025.
Автор: Цыркун Нина Александровна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: tsyrkun@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6723-5870
Аннотация: В статье рассматривается репрезентация некоторых мотивов пьес А.П. Чехова в фильмах современного американского режиссёра и писателя Вуди Аллена в смысловом пространстве, обозначенным Ю.М. Лотманом «семиосферой». Отмечается, что область «пересечения» мотивов в наибольшей степени проявляется в фабульно-тематических конструктивных моментах, а также в персонажной близости представителей сегодняшнего американского среднего класса героям Чехова. На примере фильмов «Ханна и ее сестры», «Интерьеры», «Сентябрь» и «Манхеттен» при сравнении с первоисточником выявляются различия в нравственно-психологической характеризации персонажей как следствие расхождения в мировоззренческих позициях Чехова и Аллена, что сводит системный процесс трансфигурации мотивов к экранной стилизации «чеховианы», адаптированной к восприятию американского зрителя.
Ключевые слова: А.П. Чехов, Вуди Аллен, тематические моменты, персонажная близость, трансфигурация, «чеховиана»
TRANSFIGURATION OF CHEKHOV’S MOTIVES IN WOODY ALLEN’S FILMS
Research article
UDC 791.43-2+821.161.1
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-104-115
Received: May 28, 2025. Approved after reviewing: July 10, 2025. Date of publication: October 25, 2025.
Author: Tsyrkun Nina Aleksandrovna, doctor in arts, Principal researcher, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: tsyrkun@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6723-5870
Summary: The author considers representation of some motives of Anton Chekhov’s theater plays in the films of contemporary American filmmaker and writer Woody Allen in the semantic space, designated by Yury Lotman as semiosphere. It’s marked that the province of intercrossing mostly manifests itself in treatment’s constructive moments as well as in characters’s familiarity between representatives of American middle class and Chekhov’s personages. Comparing such movies as Hannah and Her Sisters, Interiors, September and Manhattan with the primary source the author distinguishes differences in moral and spiritual characterization of the identities as divergence in worldview positions of Chekhov and Allen which resolve the systematic process of motives’ transfiguration into chekhovian pastiche adapted to its American grasping.
Keywords: Anton Chekhov, Woody Allen, thematic content, characters’s familiarity, transfiguration, chekhovian pastiche
Для цитирования:
Цыркун Н.А. Трансфигурация чеховских мотивов в фильмах Вуди Аллена // Артикульт. 2025. №3(59). С. 104-115. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-104-115
Введение
Произведения А.П. Чехова являются одними из самых экранизируемых в мире; на сегодняшний день в мире насчитывается более трехсот пятидесяти экранизаций, то есть больше, чем фильмов по произведениям Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. (Чаще чеховских на экране появлялись только пьесы Шекспира). Наиболее простым ответом на вопрос «почему?» было бы указание на особенности нарративных конструкций, предполагающих вариативность их адаптации и трактования в соответствии с обстоятельствами меняющегося мира и вписанности в него автора-кинематографиста.
В американском кино чаще всего обращается к Чехову Вуди Аллен, писатель, драматург, сценарист и режиссер. Готовясь к постановке чеховской пьесы в театре, соотечественник В. Аллена в поисках руководства к действию, объясняет это так: чеховские пьесы чрезвычайно мрачны и они очень русские. Однако мрачное может быть забавным, особенно в современной американской культуре. Американцам нравится наблюдать за печальными неудачниками, а у Чехова множество персонажей, размышляющих над бессмысленностью жизни, и ближе всех к Чехову как автор Вуди Аллен: «Русское поместье – это тот же северный Вест-Сайд Аллена, где обитают интеллектуалы, буквально фетишизирующие страдание и упивающиеся своей безысходной депрессивностью в размышлениях о жизни». И далее этот режиссёр приходит к выводу: «Я буду самим собой» [Shkurny, 2022]. Это существенный вывод, который корреспондирует с позицией Аллена в художественном мире. Аллен принципиально не создает экранизаций. В данной статье речь идет о чеховских мотивах в фильмах Вуди Аллена, и здесь есть своего рода отсылка к названию фильма Киры Муратовой, хотя в картине «Чеховские мотивы» (2002) она близко к тексту экранизировала рассказ «Тяжелые люди» и пьесу «Татьяна Репина». По случаю 165-летия со дня рождения Антона Павловича, комментируя, в частности, фильм Муратовой, редактор сайта журнала «Сеанс» П. Пугачёв так объясняет интерес кинематографистов к произведениям Чехова и особенности их переложения на экран: «Чехов скуден визуально. Он сложно устроен драматургически. <…> Его тексты не насыщены действием, в отличие от, например, Шекспира, у которого хотя бы есть изобретательные убийства, призраки, поединки. При этом влияние Чехова можно проследить во всем кинематографе последних ста лет – от голливудских психодрам 1950-х, снятых по мотивам хитовых театральных постановок, до японской новой волны, не говоря уже о советском застойном кино. И речь даже не о буквальных экранизациях, но об ощущении хрупкости привычного жизненного порядка, которое казалось локальным духом конкретного времени, а оказалось универсальным» [Пугачёв, 2025]. При этом Пугачёв, выбирая для комментария пятерку фильмов, не обращается к экранизациям Н. Михалкова, И. Хейфица, А. Кончаловского, Р. Балаяна, А. Роома или Ю. Карасика и не упоминает В. Аллена, но приводит в пример телефильм Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» как смелую и народную иллюстрацию чеховского «люди обедают, а в это время разбиваются их жизни», где «бесконечные застолья – прямая отсылка к гоняющим чаи чеховским дачникам и интеллигентам» [Пугачёв, 2025]. Можно вспомнить, что экранизация «Чайки» Сидни Люметом в 1968 году не возымела успеха, прежде всего потому, что слишком буквально воспроизводила текст пьесы, а редкие отклонения на этом фоне вызывали недоумение критиков. Французский режиссёр Луи Маль нашел свое решение для перенесения на экран пьесы «Дядя Ваня» в фильме «Ваня с 42-ой улицы» (1994), где в одном из театров на Манхеттене ставится пьеса Чехова, и вынужденная бедность антуража заставляет как самих актеров, так и зрителей вчувствоваться в смыслы и настроения первоисточника в самом центре Нью-Йорка.
Ответственность в обращении с исходным произведением следует из опасения возникновения диссонанса или истощения смысла. Заявленное оперирование экстраполированными мотивами обеспечивает заимствователю индульгенцию, предполагающую, что чеховскому тексту таким образом не наносится некий ущерб, а речь идет о реализации собственного текста в диалоге культур внутри смыслового пространства, обозначенного Ю.М. Лотманом по аналогии с биосферой В.И. Вернадского «семиосферой».
Особенности мотива как динамичного элемента сюжетообразующей системы
Отмечая «неоднородность семиосферы», где соседствуют разные субсистемы, Ю.М. Лотман писал: «Семиологическое пространство заполнено свободно передвигающимися обломками различных структур, которые, однако, устойчиво хранят в себе память о целом, и, попадая в чужие пространства, могут вдруг бурно реставрироваться <…> и, становясь другими, оставаться собой» [Лотман, 1992, с. 177]. Важнейшее свойство мотива – его неполная явленность и реализованность в тексте, провоцирующие как угадывание в нем, так и интерпретацию. Соответственно в данном случае воспринимающий субъект, знакомый с творчеством Чехова, соотнесет мотив с оригиналом, в то время как неосведомленный поймет его как авторское высказывание интерпретатора, создающего свою пространственную «субструктуру». В обоих случаях это отвечает стратегии В. Аллена со свойственной ему презумпцией авторства, которая сложилась еще в начале его творческого пути в качестве стенд-ап комика. Все его фильмы (кроме дебютного «Что нового, киска?», 1965) поставлены по его собственным сценариям, в редком своем фильме он не появлялся как актер.
Область «пересечения» мотивов может быть как очень обширной, так и малозначительной. В фильмах Аллена «Энни Холл» (1977), «Интерьеры» (1978), «Манхэттен» (1979), «Ханна и ее сестры» (1986), «Эпоха радио» (1987), «Сентябрь» (1987), «Мелинда и Мелинда» (2004) угадываются фабульно-тематические конструктивные моменты чеховских пьес, где много разговоров и мало действий, а также персонажная близость фильмических персонажей героям драматургических произведений Чехова. (Следует отметить, что довольно часто в фильмах Аллена заметна и его явная осведомленность не только в драматургической, но и новеллистической прозе Чехова, а также влияние произведений других русских классиков – Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского). Обращение именно к драматургии Чехова для Аллена неслучайно. Он автор ряда (преимущественно одноактных) пьес и, хотя нерегулярно, выступает в качестве режиссёра (не только своих произведений) в офф-бродвейских постановках, а в 2008 году поставил авторскую версию одноактной оперы Пуччини «Джанни Скикки» в лос-анджелесском оперном театре.
Наряду с использованием чеховских мотивов в художественной эволюции кинематографа Аллена происходят изменения в сторону от доминирования комического к трагикомическому или, как обозначают эту манеру некоторые критики, «серьезной комедии», также называемой «интеллектуальной комедией» или «чеховской», а поэтику, с пиететом к первоисточнику, «чеховианской» (chekhovian). Достаточно точно обозначила суть чеховского в фильмах Аллена канадская славистка Румиана Делчева: это «постановка глобальных философских проблем трагического отчуждения, личностной изоляции и острого кризиса семейных отношений» [Deltcheva, 1999, p. 169]. Американский кинокритик Роджер Эберт называет следующие, близкие Аллену и сходные с перечисленными Делчевой тематико-смысловые моменты: «психоанализ, боязнь отчужденности, страх смерти, застольный ритуал, поиск стабильности и любовь в мире, который так и ждет, где бы тебе поставить подножку» [Ebert, 2012].
Герой фильма Аллена «Манхэттен» Айзек в исполнении самого автора, перечисляя то, что заставляет его жить, упоминает шведское кино, имея в виду прежде всего фильмы Ингмара Бергмана, сыгравшие важную роль в его переходе к «серьезному» этапу творчества. «Интерьеры», картина, которую обычно называют его первой серьезной драмой (оператор Гордон Уиллис), является в этом плане наиболее репрезентативной, а такие компоненты, как замкнутое пространство дома, сложные отношения между тремя сестрами и неуравновешенной матерью и отцом, который хочет жениться на другой женщине, сближают Аллена одновременно с бергмановскими фильмами «Шепоты и крики» и «Молчание» и с пьесами Чехова, к которым режиссёр не раз обращался в своих театральных постановках. (Кстати, четыре фильма Аллена были сняты самым «бергмановским» оператором Свеном Нюквистом). Если вспомнить слова П. Пугачёва о «визуальной скудости» чеховских пьес, то Бергман в большинстве своих фильмов довольно равнодушен к визуальным возможностям декорации, акцентируясь на неисчерпаемых возможностях человеческого лица или же предпочитая общие планы, что и позаимствовал у шведского классика Вуди Аллен.
Подобно тому, как Чехов иронически относился к теории «малых дел» и не проявлял сочувствия к радикальным народовольческим движениям 1870-80-х годов, направленным на социополитическое переустройство России, за что его нередко упрекали в отсутствии мировоззрения, Аллен не участвовал в американском движении контркультуры 1960-70-х годов, оставаясь автором-одиночкой, сосредоточенным на творчестве. Однако это не означает отсутствия у обоих определенной гражданской позиции, заставившей Аллена присоединиться к организации Common Ground, помогающей бездомным, а Чехова совершить долгий и мучительный путь на Сахалин, чтобы создать остро-публицистическую картину каторги и арестантского быта, места «невыносимых страданий» в книге «Остров Сахалин». Но в отличие от Чехова, чей персонажный круг чрезвычайно широк, Аллен сосредоточен на представлении той среды среднего класса, к которой сам принадлежит.
Мировоззрение Чехова проявлялось в его художественной философии в отражении действительности и в образах его героев. Соответственно Аллен в своих фильмах не ставит социополитических проблем, отголоски которых лишь вскользь слышатся в разговорах персонажей. Наиболее полно выразил его восприятие современной Америки пожилой художник Фредерик в фильме «Ханна и ее сестры»: «Давно не смотрю телевизор. Бессмысленно переключать каналы в поисках чего-то стоящего. Но тут наша культура представлена во всей красе. Нацисты, реклама дезодорантов, бойцовские поединки, конкурсы красоты, ток-шоу. Но хуже всего проповедники-фундаменталисты. Третьеразрядные мошенники, внушающие простакам, что они якобы разговаривают с Иисусом и выманивающие у них деньги. Деньги, деньги, деньги! Вернулся бы Иисус и посмотрел, что творится его именем…».
В силу отрывочности и «случайностности» чеховских мотивов в картинах Аллена их практически невозможно сегментировать. Поэтому в данной статье целесообразно сосредоточиться на двух фабульно-содержательных линиях (особенно подсказанных самими названиями, как в фильмах «Три сестры» и «Интерьеры»), связанных с темой семьи как способа приобщения индивида к социуму, и дома как одного из проявлений индивидуализма в идеологеме «американской мечты», а также на фильме «Сентябрь», который, по словам Аллена, должен был стать воплощением «чеховской атмосферы».
Семья: связи и узы
Наиболее очевидно обращение Аллена к чеховским мотивам в фильме «Ханна и ее сестры» (оператор Карло Ди Пальма, снявший семь его фильмов). Само название явно подразумевает источник авторского вдохновения – пьесу «Три сестры». (Наиболее подробный разбор именно этого фильма помогает избежать возможных повторов). Аллен достаточно вольно распоряжается чеховскими мотивами, а иногда иронично обыгрывает их, подчеркивая различия между симметричными персонажами, их поведением и, в конечном итоге, судьбами. Критически относясь к абстрактно-философским рефлексиям своих персонажей, он показывает их в типичных, многократно повторяющихся ситуациях, как будто иллюстрируя суждение А.П. Чудакова, высказанное в его книге «Поэтика Чехова»: «…в драмах Чехова за внешне незначительными эпизодами скрывается нечто. В зависимости от эпохи, личности критика, «социального заказа» и т. п. это нечто меняется. Оно может называться «настроение», «обыденность», «скука жизни», «лиризм», «пошлость мелочей», «вера в будущее» [Чудаков, 1971, с. 42]. При этом Чудаков настаивает на необходимости видения пьес Чехова в целостности, где случайное неотделимо от главного.
К пьесе Чехова отсылает прежде всего композиция фильма Аллена. Действие пьесы начинается в доме Прозоровых в день именин Ирины, но как раз в этот день год назад умер отец героинь, причем Ольга говорит, что «прошел год, и мы вспоминаем об этом легко» [Чехов, Три сестры, 1986, с. 119]. Фильм «Ханна и ее сестры» открывается и закольцовывается сценой празднования Дня благодарения, между которыми проходит два года. В этот день по традиции несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничный обед (рис. 1).

Рис. 1. День благодарения. Кадр из фильма «Ханна и ее сестры», реж. Вуди Аллен.
Тут же, как у Чехова, представлены главные герои, и мы узнаем о них и об их взаимоотношениях самое главное. В фильме, как и в пьесе, действие развивается по трем сюжетным линиям, причем в композицию встраивается сольная партия Микки в исполнении самого Аллена, бывшего мужа Ханны – образец автореференциального мотива, характерного для его фильмов. После развода Ханна (Миа Фэрроу) оставила карьеру актрисы, чтобы посвятить себя воспитанию детей-близняшек. Ее второй муж Эллиот (Майкл Кейн), недовольный самоуверенностью супруги, влюблен в ее сестру Ли (Барбара Херши), но у той есть любовник, художник Фредерик (Макс фон Сюдов). А Эллиот, подобно Вершинину, не может набраться духу оставить жену. Вторая сестра Ханны Холли (ДайанУист), бывшая наркоманка, у которой не задалась актерская карьера, занялась кейтерингом, заняв денег у Ханны, а после неудачного любовного романа решает писать сценарий, выбрав в качестве сюжета историю Ханны и Эллиота, что вызвало негативную реакцию старшей. И тогда Холли пишет историю про себя, очень понравившуюся Микки, обещавшем ей поддержку в продвижении на телевидение. Микки ипохондрик, сочиняющий сценарии для телесериалов и одержимый своим мнимым нездоровьем. После неудачной, даже комичной попытки застрелиться, когда его пуля летит в зеркало, то есть поражая его иллюзорного «двойника», Микки пошел развеяться в кинотеатр, и просмотр фильма братьев Маркс «Утиный суп» привел к тому, что он «начал наслаждаться жизнью!». То есть понять жизнь и ее смысл невозможно, зато ею можно наслаждаться. Это открытие, по-видимому, составляет главный месседж фильма Вуди Аллена, где переживания героев, как будто бы нацеленных на глубокомысленные размышления о себе и своем творчестве, на самом деле маскируют удовлетворенность положением дел и более всего они боятся рисковать своим благополучием (рис. 2).

Рис. 2. Ханна (Миа Фэрроу), Ли (Барбара Херши) и Холли (Дайана Уист). Кадр из фильма «Ханна и ее сестры», реж. Вуди Аллен.
Однако, получив врачебное заключение о том, что он здоров, Микки впадает в отчаяние, ощутив бессмысленность своей жизни. На экране появляется интертитр – цитата из «Исповеди» Л.Н. Толстого: «То самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное несомненное знание, доступное человеку». Микки признается, как вдруг почувствовал, что достиг дна, что ему более не хочется жить, но вдруг подумал, что если Бог существует, то это будет неправильно. Ни у Сократа, ни у Ницше, ни у Фрейда нужного ответа он не нашел. В поисках смысла жизни в религии он не удовлетворился ни беседой с католическим пастором, ни танцами кришнаитов (рис. 3).

Рис. 3. Микки (Вуди Аллен) беседует с пастором. Кадр из фильма «Ханна и ее сестры», реж. Вуди Аллен.
Хотя в посетившем его откровении можно даже усмотреть отсылку к максиме Людвига Витгенштейна о том, что смысл жизни в ее проживании, для зрителя как свидетеля поверхностного обращения Микки к источникам мудрости и приобщения к религиозности его внезапное просветление на фоне глубоко выстраданной толстовской «Исповеди» приобретает несерьезный, даже комический эффект, пролагающий водораздел между чувственно-мыслительным путем, проделанным русским писателем, и его «аналогом» в лице современного американского интеллектуала.
Важную роль в фильме Аллена (профессионального кларнетиста) играет почти непрерывный музыкальный аккомпанемент. На первом празднике отец трех сестер играет на рояле джаз, а на втором – печальный блюз. Напевные повторы, инкантации, создающие ритм, особым образом создают корреляцию между финалами чеховской пьесы и фильма Аллена. В картине после заключительных титров на черном экране блюз сменяется радостным джазом. Однако Аллен не был удовлетворен слишком однозначным решением финала, признаваясь в интервью, что ему не хватило мастерства показать, что несчастья его героя не были искуплены поступками, а потому выглядели бы на экране неубедительными. Иначе говоря, он не смог подняться до уровня Чехова, у которого, по словам Аллена, финалы часто бывают несчастливыми, но не удручающими, а даже «воодушевляющими». И говорит, что пошел на компромисс, чтобы «не погубить фильм, который в итоге стал коммерчески успешным. Но я всегда сожалел об этом» [Jones, 2011]. Еще более не только финалом, но фильмом в целом была недовольна Миа Фэрроу. Она писала в своих мемуарах: «Прежде всего, я раскритиковала сценарий. Его герои показались мне самовлюбленными и безнравственными. Слов было много, но не сказано было ничего <…>. Он выхватил обстоятельства нашей жизни и превратил их в карикатуру» [Farrow, 1997, p. 225].
Решение финала в фильме можно назвать «техническим». У алленовских «окарикатуренных» героинь, в отличие от чеховских, не выявляется «внутренняя драматургия», подводящая к несчастливому, но не удручающему финалу. В пьесе главное совершается в сознании героинь, прорываясь вовне в сцене пожара с его эсхатологической разрушительной и очищающей силой. Ольга готова отдать все погорельцам. Маша признается сестрам в своей любви к Вершинину, надеясь на прощение своего греха. Ирина осознает, что уже многого не помнит, «…у меня перепуталось в голове… а жизнь уходит и никогда не вернется» [Чехов, Три сестры, 1986, с. 166]. В отличие от Микки, нашедшего смысл жизни в наслаждении ею, сестры Прозоровы, расставшись с иллюзиями, потеряв близких и дорогих им людей, уступив дом взявшей все в свои руки Наталье, видят свою дальнейшую жизнь в исполнении долга перед жизнью, в надежде на то, что однажды «все узнают… для чего эти страдания» и «счастье и мир настанут на земле» [там же, с 188].
Россиянки конца 19-го века, пожалуй, по-своему деятельны и амбициозны, но для реализации планов им не хватает достаточных условий; они скованы определенными возможностями, а недостижимость мечты о Москве объясняют стечением обстоятельств.
В отличие от фильмических американцев конца 20-го века, которые пытаются устроить свои судьбы наиболее благополучным образом. В итоге Ли вышла замуж за профессора, случайно встреченного в университете, Ханна и Эллиот помирились, а Холли выходит замуж за Микки и готовится стать матерью. А когда сестры Прозоровы узнают о смерти Тузенбаха, и бригада Вершинина покидает город, Маша говорит: «О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить… Надо жить…» [там же, 187]. Ей вторит Ирина: «Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить… надо работать, только работать! Завтра я поеду одна, буду учить в школе и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна» [там же]. И Ольга находит в себе не только желание жить, но и видит смысл и цель жизни: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь» [там же, 187-188]. Преодолев рубежное состояние, сестры не впадают в грех уныния.
Возвращаясь к Вуди Аллену, следует сказать, что он пытался избежать своей ошибки с недостаточной прописанностью образа Микки в концовке фильма «Интерьеры», прибегая к референсу к «Трем сестрам». Мы видим, как, проехав в этот дом через некоторое время после похорон бросившейся в озеро матери, сестры встают у окна и одна из них говорит: «Волны улеглись…», и другая добавляет: «Озеро такое мирное…» (рис. 4).

Рис. 4. Рената (Дайан Китон), Джои (Мэри Бёрт Херт) и Флин (Кристин Гриффит). Кадр из фильма «Интерьеры», реж. Вуди Аллен.
Здесь как будто улавливается аллюзия на начало пьесы, где сестры «легко» вспоминают о событии годичной давности. Однако есть существенная разница между их настроением через год после смерти отца и «умиротворенностью» американок после смерти матери. Джои записывает в своем дневнике, что всякий раз, когда они сюда возвращаются, их охватывает ностальгия, так что видимая «умиротворенность» скрывает их неудовлетворенность существованием без всякого намека на надежды на будущее. В фильме «Сентябрь» актриса Дайан (Элен Стрич), глядя в зеркало, с отчаянием говорит: «Как ужасно стареть. Вдруг понимаешь, что у тебя нет будущего!». Архетипичный образ стареющей актрисы отсылает к Раневской из чеховского «Вишневого сада», но та, понеся столько потерь, все же устремлена в будущее, отправляется в Париж, даже зная, что собой представляет ее французский друг, и понимая, что присланных бабушкой денег хватит ненадолго.
Что же касается финала пьесы «Три сестры», то, как писал Б.И. Зингерман, «Мысли и чувства трех сестер обращены в финале не столько к убитому Тузенбаху, к уходящей под звуки военного оркестра артиллерийской бригаде и своей собственной несчастной судьбе, сколько к вечности, которая так отчетливо сквозит в последних сценах каждой чеховской пьесы» [Зингерман, 1988, с. 23]. Время действия пьесы показано Чеховым в обрывках судеб, из которых складывается внутреннее непрерывное течение жизни, связанное триединством сестер. А в случае фильма Аллена, как резюмирует Л. Карахан, в «Ханне и ее сестрах» «автор как бы благодушно растворяется в созданном им кинематографическом мире, обаянию которого и сам не в силах противостоять» [Карахан, 1989, с. 123].
Дом и город
Тем не менее, как писал в своей книге «Поэтика Чехова» А.П. Чудаков, критики усиленно дебатировали вопрос о «немотивированности» чеховских героев в связи с пьесой «Три сестры»: сестры страстно хотят в Москву, постоянно об этом говорят, но не едут туда, хотя им как будто ничто не мешает это сделать. Однако, как отметил Л.С. Выготский в «Психологии искусства», столь же немотивированным элементом драмы остается и вишневый сад для Раневской. Москва является для сестер «только конструктивным художественным фактором, а не предметом реального желания», благодаря чему пьеса производит не комическое, а глубоко драматическое впечатление: «В ткань совершенно реальных и бытовых отношений вплетается какой-то ирреальный мотив, который начинает приниматься нами также за совершенно психологически реальный мотив, и борьба этих двух несовместимых мотивов и дает то противоречие, которое необходимо должно быть разрешено в катарсисе и без которого нет искусства» [Выготский, 1987, с. 226]. Можно предположить, что Аллен в свою очередь по-своему и вполне конкретно интерпретирует этот мотив. Кажется, что у Ханны и ее сестер нет нужды мечтать о призрачной Москве, они живут в замечательном городе Нью-Йорке, который Вуди Аллен сравнивает с Парижем или Флоренцией; к тому же они не сироты, их родители живы и рядом ними. Однако «пересечение» с темой Москвы в фильме Аллена все же есть. В 1979 году Аллен и работавший с Бергманом оператор Гордон Уиллис задумали снять широкоформатную картину «Манхэттен» с саундтреком Джорджа Гершвина. Черно-белый фильм открывается видами стандартизованного Нью-Йорка с его небоскребами, а закадровый голос (приятеля Айзека/Аллена) говорит, что Айзек романтизировал город, ставший для него на тот момент метафорой упадка современной культуры с «наркоманией, громкой музыкой» и прочем ему чуждым. Когда интервьюер спросил Аллена, не угнетает ли его сегодняшний облик Нью-Йорка, тот ответил: «Просто убивает» и далее пускается в воспоминания о прошлом [Geist, 1987, p. 40]. В «Ханне и ее сестрах» Аллен устраивал зрителю не связанную с основным нарративом экскурсию по Ист-Сайду с видами Бродвея, Крайслер-билдинга, Поттер-билдинга и синагоги на Пятой авеню. Эти кадры снимались мобильной камерой из автомобиля, и в фрейме его окна уникальные эклектичные здания, словно «выпиленные» из городского ландшафта, приобретали призрачно-метафорический характер подобно Москве в сознании сестер Прозоровых.
Тема Нью-Йорка возникает и в фильме «Сентябрь» параллельно мотивам продажи имения в «Вишневом саде» и предложения Серебрякова продать имение, завещанное Соне, в пьесе «Дядя Ваня». Аллен всегда хотел поставить «камерный» фильм, с небольшим актерским составом и в одном месте. Локацию подсказывал загородный дом Миа Фэрроу в Коннектикуте, показавшийся ему воплощением «чеховской атмосферы», идеальным местом для «комедии отчаяния и подавленности». Он не отвел себе роли в этом фильме, вероятно для того, чтобы избежать аллюзий на себя самого, то есть исключить автореференциальный мотив, предоставив пространство фильма для создания «чеховской атмосферы». Вместе с тем оптика Аллена вписывается в сквозной мотив американской литературы об одиноком человеке, его трагической отчужденности и попытках ее преодолеть приобщением к конкретному сообществу, в роли которого чаще всего оказывается семья. Название фильма подчеркивает его осенний характер, что приближает его к финалам чеховских пьес. Когда дело дошло до съемок, наступила зима, и это не сочеталось с желанием автора приурочить действие именно к сентябрю, так что картина снималась на нью-йоркской студии.
Действие фильма разворачивается в замкнутом пространстве дома, природа не показывается; Аллен хотел сосредоточиться на героях, чтобы внимание зрителей не отвлекалось на красоту заката или желтеющие листья деревьев. Соответственно это подчеркивало и сосредоточенность самих персонажей на самих себе (рис. 5).

Рис. 5. Лейн (Миа Фэрроу). Кадр из фильма «Сентябрь», реж. Вуди Аллен.
После попытки самоубийства главная героиня Лейн (Миа Фэрроу) переезжает в свой загородный дом в Вермонте, куда прибывают ее мать, бывшая актриса Дайан с мужем Ллойдом и подруга Лейн Стефани. Властная мать решила продать этот дом, настаивая на необходимости дочери ехать в Нью-Йорк. Стефани уговаривает: «Ты будешь работать. Влюбишься. Может, у тебя все получится, а может, и нет. Но у тебя найдется миллион дел, чтобы держаться». Однако в Вермонте у Лейн появился друг Питер, неудачливый писатель, в которого она влюблена. Здесь возникает хитросплетение отношений, напоминающих сюжетную канву пьесы Чехова «Дядя Ваня». Лейн влюблена в Питера, который любит не разделяющую его чувств замужнюю Стефани, пожилой сосед-учитель Говард любит Лейн, которая к нему равнодушна. Получается, что Лейн не хочет ехать в Нью-Йорк, с которым ее не связывают никакие воспоминания, в отличие от сестер Прозоровых, чья мать похоронена на Новодевичьем кладбище. Так что не столько сам город, сколько нечто личное, родное привязывает их к Москве, как Лейн привязывает к Вермонту любовь к Питеру. Так же, как Раневскую и Гаева привязывает к их имению проведенное здесь детство, где одна из комнат до сих пор зовется детской.
Ллойд говорит, что женился на Дайане, «чтобы не спать одному», а она живая, теплая и настоящая. Питер признается Стефани, что завел мимолетный роман с Лейн, чтобы справиться с одиночеством и «думал только о любви к себе». Стефани в свою очередь говорит, что вышла замуж без любви, потому, что не хотела быть одной. А Дайан, занявшись спиритизмом, вызывает духов своих бывших любовников, прагматически «отсортировывая» их. Она устроила сеанс спиритизма во время «электрического шторма» – в первый день осени из-за сильного ветра в доме погасло электричество и пришлось зажечь свечи. Это кульминационный момент фильма, корреспондирующий со сценой пожара в «Трех сестрах», но если у Чехова героини открывают друг другу самое сокровенное, находя понимание и сочувствие, то в фильме мы наблюдаем эгоцентрический взрыв истерических откровений и взаимных обвинений. Пьяный Говард открывает свои чувства Лейн, но не находит отзыва. Питер признается Лейн, что не любит ее, а потом пытается соблазнить Стефани, но та прогоняет его. А наутро покупатели ходят по дому, Лейн прикидывает, насколько ей хватит денег от продажи дома, чтобы жить в Нью-Йорке, и, открывая дверь покупателям, видит, как Питер целует ее лучшую подругу, причем Питер уверяет Лейн, что у них со Стефани все серьезно. А Дайан сообщает, что они с мужем решили жить в этом доме, и это вызывает шок у Лейн, которой дом был давно предназначен. Лейн открывает (для зрителей) ужасную вещь: ведь это Дайан застрелила своего любовника, а по совету адвокатов в убийстве призналась ее малолетняя в ту пору дочь. Все, кроме Лейн и Стефани, уезжают, Лейн берется за счета, а камера панорамирует дом с открытыми дверями и пустыми комнатами. Если обратиться к мотиву аналогии между Лейн и Соней из пьесы «Дядя Ваня», то финал там не столь беспросветно «удручающий». Соня и Войницкий берутся за работу, и Соня утешает дядю, обещая услышать ангелов и увидеть небо в алмазах, когда все зло и страдания потонут в милосердии: «Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем… Мы отдохнем!» [Чехов, Дядя Ваня, 1986, с. 116].
Тема дома по-своему прозвучала в фильме «Интерьеры». Ева (Джеральдин Пейдж), мать трех сестер, привязана к своему дому как достижению «американской мечты», метафорической «земли обетованной». А ее муж Артур объявляет за семейным застольем, что разводится с Евой и собирается жениться на «нормальной» женщине Перл, которая кажется сестрам вульгарной, и она действительно напоминает Наташу, жену Андрея Прозорова в «Трех сестрах». Ева дизайнер, тщательно создававшая этот общий дом. Однако в его изысканности ощущается нечто неестественное, а доминирующий белый цвет метафорически ассоциируется с безжизненностью, что Артур характеризует так: «Она создала мир, в котором мы существуем, где у всего есть свое место, где всегда есть гармония, но я бы сказал, что это ледяной дворец». И разрушить его предоставляется чужаку, который является в образе Перл. Ее функцию в фильме можно соотнести с тем, что в «Вишневом саде» привносит в имение Раневской Лопахин, предлагая отдать его в аренду под дачи, на что Раневская отвечает: «Дачи и дачники – это так пошло…» [Чехов, Вишнёвый сад, 1986, с. 219]. А разбитая «пошлой» Перл ближе к финалу ваза прочитывается как своего рода чеховское «ружье», которое должно выстрелить в третьем акте.
В использовании чеховских мотивов Аллен прибегает к контаминации. Так почеркнуто вульгарная (в пестром платье, в отличие от всех прочих героев, одетых в серое) совмещает в себе Наташу и Чебутыкина с его «Тарабумбией», который нечаянно разбил любимые часы матери сестер Прозоровых. Перл, неуклюже изображая поп-певицу, смахивает на пол антикварную вазу, которую Ева долго выбирала и с которой впервые появляется в кадре, в интерьерах, которые она вдумчиво и с любовью создавала. Надо сказать, что здесь очевидно просматривается различие между деталью у Чехова и Аллена. Чебутыкин нечаянно разбил хрупкие фарфоровые часы, не только память о матери сестер, но и символ текучего времени, связывающих их с прошлым и задающего некий вектор к будущему, на которое они возлагают свои надежды. Чеховские часы принадлежат сразу двум сферам – «реальной» и символической, и через эту деталь проявляется тема рока, судьбы. Как писал Чудаков, «Позиция автора – вне привычного соотношения вещного и духовного, над традиционной философской и литературной их иерархией, и она оказывается позицией новой высокой духовности» [Чудаков, 1971, с. 173]. Разбитая ваза в «Интерьерах» – напрасная трата денег, дорогостоящий предмет, безделушка, не имеющая никакого смысла ни для кого в доме, кроме Евы, но ведь и ваза эта не создана ею как художником-дизайнером, а приобретена в магазине, и служит всего лишь чисто предметной деталью в интерьерах.
Как театральный режиссёр, Аллен легко переносит на экран организацию сценического пространства чеховских пьес, где внешнее пространство предстает как некий символический факт. Даже при всей сложности взаимоотношений персонажей и «стерильной» атмосферы интерьеров замкнутое пространство созданного Евой дома остается знакомым и надежным. Так чеховский Вершинин у Прозоровых восхищается их «чудесною квартирой» и признается, что в жизни ему всегда не хватало именно такого родного пространства «с цветами, с массою света…» [Чехов, Три сестры, 1986, с. 132].
В отчаянии от предательства оставившего ее мужа Ева пытается покончить с собой, отравившись газом, но в собственном доме это у нее не получается. И она бросается в волны разбушевавшегося озера, в чуждое ей пространство, которое ее принимает (рис. 6).

Рис. 6. Ева (Джеральдин Пейдж). Кадр из фильма «Интерьеры», реж. Вуди Аллен.
В фильме «Сентябрь» рационально мыслящий в силу профессии физик Ллойд, муж Дайан переводит экзистенциальную тему в универсальный регистр «неизбежной гибели вселенной и человеческой жизни». Для него жизнь случайна, а будущего нет: «все исчезнет навсегда – вселенная, пространство, время». Идея разрушительной власти природы визуализируется в трагической роли шторма, унесшего жизнь Евы. По мнению американского слависта Дж. Конрада, здесь взгляд Аллена пересекается с чеховским пониманием «равнодушия природы» [Conrad, 1977, p. 94]. Этот эпизод снимается как бы обезличенными общими планами. Лапидарность поэтики усиливает символизм фильма, подчеркивая двусмысленность поступка Евы, одновременно логичного и греховного. И здесь уместно вспомнить слова Чехова из письма А.С. Суворину 1893 года: «Все исцеляющая природы, убивая нас, в то же время искусно обманывает, как нянька ребенка, когда уносит его из гостиной спать» [Чехов, 1977, с. 229]. Здесь можно усмотреть скрытую отсылку к стихотворению А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» о смерти и равнодушии природы в ее вечной гармонии, которую в пьесе представляет озеро как обитель гармонии и символ вечного покоя, а также нерасторжимой связи прошлого, настоящего и будущего.
Р. Делчева усмотрела в образе Евы пересечение с Ниной Заречной, которая, пройдя через испытания, потери и неудачи, в конце пьесы называет себя чайкой. С этим сравнением вряд ли можно согласиться. У Чехова чайка – не сдавшаяся птица, а сломленная Ева не находит в себе сил жить дальше. Нина, как и Ирина в пьесе «Три сестры», проделывает духовный путь от иллюзий к суровой реальности, к труду и становится «белой птицей», готовой к полету и новой жизни: «…и у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать, работать…» [Чехов, Три сестры, 1986, с. 176]. Здесь можно вспомнить и монолог Сони в финале «Дяди Вани: «…мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…» [Чехов, Чайка, 1986, с. 116].
Подчеркивая значимость смысложизненной проблематики для Чехова, литературовед А.Д Сёмкин выносит в название своей статьи слова Маши из «Трех сестер»: «Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава» [Чехов, Три сестры, 1986, с. 147]. Он называет «телеологическую перспективу» чеховского мира «стержнем», «важнейшим организующим вопросом чеховской вселенной» [Сёмкин, 2014, с. 224]. Усматривая в этой системе два полюса, связанные с утверждением или отрицанием цели и смысла жизни вообще, Сёмкин выделяет две модели поведения героев чеховской прозы, условно «негативную» и «позитивную». В первой он называет выявленные им в некоторых прозаических произведениях Чехова сугубо практическое целеполагание, когда мечты о будущем сводятся к утилитарности, поиски смысла в идеологии, успех в обществе или сам процесс жизни. Примером последнего можно назвать «арку» алленовского героя Микки в фильме «Ханна и ее сестры». А отсутствие смысла существования визуально иллюстрирует дом с пустыми комнатами как метафора душевной опустошенности в финале фильма «Сентябрь». В зоне «позитива» Сёмкин называет веру, саму способность веровать, устремленность к высокому, исполнение долга, труд или надежду на посмертную справедливость, на грядущее воздаяние в лучшем из миров. Сёмкин приводит примеры ощущения бессмысленности жизни у Чехова в жалобах Войницого («Дядя Ваня») и Иванова, однако важно подчеркнуть, что в финалах пьес (которые, кстати, были написаны Чеховым после поездки на Сахалин), звучат приведенные выше реплики героинь с явно позитивным пафосом, причем аналогию этой модели поведения у героев Аллена найти не удается.
Заключение
Аллен называет своими кумирами Ингмара Бергмана, Граучо Маркса, Федерико Феллини, композитора Кола Портера и единственного писателя – Антона Чехова! Понимая, что не может справиться с внутренней драматургией чеховских героев, Аллен берется за вольную игру мотивами, создавая внешне симметричную чеховским ситуационно-чувственную адаптацию своих персонажей. Их обрисовка нередко обостряется почти до гротеска, лишаясь чеховского лиризма, что оборачивается американской стилизацией «чеховианы». Что же касается воспринимающего субъекта (зрителя), то здесь должен срабатывать рекурсивный эффект – сравнение с первоисточником. В результате, однако, обнаруживаются гораздо более глубинные пласты нравственно-психологической характеризации героев, отражающей различие мировоззренческих позиций русского писателя и американского кинематографиста. Этим можно объяснить тот факт, что российский зритель, как правило, не улавливает в фильмах Вуди Аллена чеховских мотивов, а сама эта тема практически выходит из круга внимания экспертного сообщества. Тем не менее она открывает возможность рассмотрения таких, например, аспектов, как экзистенциальный кризис, а также сравнение образов Микки («Ханна и ее сестры») и Андрея Прозорова из чеховских «Трех сестер».
ФИЛЬМОГРАФИЯ
1. Манхеттен / Manhattan (1979, реж. Вуди Аллен, США), игр.
2. Интерьеры/ Interiors (1978, реж. Вуди Аллен, США), игр.
3. Сентябрь/ September (1987, реж. Вуди Аллен, США), игр.
4. Ханна и ее сестры/ Hannah and Her Sisters (1986, реж. Вуди Аллен, США), игр.
ИСТОЧНИКИ
1. Чехов А.П. Вишневый сад: Комедия в 4-х действиях // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Том 13. Пьесы. 1895-1904. – Москва: Наука, 1986. – С. 195-254.
2. Чехов А.П. Дядя Ваня: Сцены из деревенской жизни в четырех действиях // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Том 13. Пьесы. 1895-1904. – Москва: Наука, 1986. – С. 61-116.
3. Чехов А.П. Три сестры: Драма в четырех действиях // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Том 13. Пьесы. 1895-1904. – Москва: Наука, 1986. – С. 117-188.
4. Чехов А.П. Чайка: Комедия в четырех действиях // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Том 13. Пьесы. 1895-1904. – Москва: Наука, 1986. – С. 3-60.
5. Чехов А.П. Письмо к Суворину, 1893 // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Том 5. – Москва: Наука, 1977. – С. 228-229.
ЛИТЕРАТУРА
1. Выготский Л.C. Психология искусства. – Москва: Искусство, 1968.
2. Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. – Москва: Наука, 1988.
3. Карахан Л. Рядом с центром Европы. Размышления на темы XXVI МКФ в Карловых Варах // Искусство кино. 1989. № 3. С.115-127.
4. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – Москва: Гнозис, 1992.
5. Пугачёв П. Многоуважаемый: как Чехов повлиял на кино // Кинопоиск, 29 января 2025. Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/media/article/4010648/ (дата обращения: 01.02.2025).
6. Сёмкин А.Д. «Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава». К вопросу о телеологической парадигме чеховского мира // Русская христианская гуманитарная академия. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 221-234.
7. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. – Москва: Наука, 1971.
8. Conrad Joseph L. Anton Chekhov's Literary Landscapes // Chekhov's Arts of Writing: A Collection of Critical Essays. Eds. Paul Debreczeny and Thomas Eekman. – Columbus: Slavica, 1977. – P. 82-99.
9. Deltcheva R. The Russian Cultural Presence in the Works of Woody Allen. – Edmonton: Univ. of Alberta, 1999.
10. Ebert R. Great Movies, December 14, 2012. Режим доступа: https://www.rogerebert.com/interviews/woody-allen-what-have-i-got-to-live-for-im-here-is-that-enough (дата обращения: 13.11. 2024).
11. Farrow M. What falls away. A Memoir. – Thorndike Press. 1997.
12. Geist W. Interview with Woody Allen // Rolling Stone / 9 apr 1987, p. 39-88.
13. Jones K. Woody Allen interview // Film Comment, May-June 2011. Режим доступа: https://www.filmcomment.com/article/woody-allen-the-film-comment-interview/- in the May-June 2011 (дата обращения: 10.10. 2024).
14. Shkurny A. Conveying the tragedy through comedy: Woody Allen // Filmstage, 14 October, 2022. Режим доступа: https://filmustage.com/blog/author/alex/ (дата обращения: 06.10. 2024).
SOURCES
1. Chekhov A.P. “Chaika: Comedia v 4-kh deystviakh” [The Seagull]. Chekhov A.P. Polnoe sobranie sochienyi i pisem v 30 tomakh [Complete Collection of Writings and Letters in 30 volumes]. Moscow, Nauka, 1986. Vol. 13. Plays, 1895-1904, p. 3-60. (in Russian).
2. Chekhov A.P. “Dyadya Vanya: Tseny iz derevenskoy zhizny v treokh deystviakh” [Uncle Vanya]. Chekhov A.P. Polnoe sobranie sochienyi i pisem v 30 tomakh [Complete Collection of Writings and Letters in 30 volumes]. Moscow, Nauka, 1986. Vol. 13. Plays, 1895-1904, p. 61-116. (in Russian).
3. Chekhov A.P. “Pis’mo Suvorinu, 1893” [A Letter to Suvorin, 1893]. Chekhov A.P. Polnoe sobranie sochienyi i pisem v 30 tomakh [Complete Collection of Writings and Letters in 30 volumes]. Moscow, Nauka, 1978. Vol. 5, p. 228-229. (in Russian).
4. Chekhov A.P. “Tri Sestry. Drama v 4-kh deystviakh” [Three Sisters. Drama in Four Acts]. Chekhov A.P. Polnoe sobranie sochienyi i pisem v 30 tomakh [Complete Collection of Writings and Letters in 30 volumes]. Moscow, Nauka, 1986. Vol. 13. Plays, p. 117-188. (in Russian).
5. Chekhov A.P. “Vishnevy Sad: Comedia v 4-kh deystviakh” [The Cherry Orchad]. Chekhov A.P. Polnoe sobranie sochienyi i pisem v 30 tomakh [Complete Collection of Writings and Letters in 30 volumes]. Moscow, Nauka, 1986. Vol. 13. Plays, 1895-1904, p. 195-254. (in Russian).
REFERENCES
1. Chudakov A.P. Poetika Chekhova [Chekhov’s Poetics]. Moscow, Nauka, 1971. (in Russian).
2. Conrad Joseph L. “Anton Chekhov's Literary Landscapes.” Chekhov's Arts of Writing: A Collection of Critical Essays. Eds. Paul Debreczeny and Thomas Eekman. Columbus: Slavica, 1977. P. 82-99.
3. Deltcheva R. The Russian Cultural Presence in the Works of Woody Allen. Edmonton, Univ. of Alberta, 1999.
4. Ebert R. Great Movies, December 14, 2012. Available at: https://www.rogerebert.com/interviews/woody-allen-what-have-i-got-to-live-for-im-here-is-that-enough (accessed: 13.11. 2024).
5. Farrow M. What falls away. A Memoir. Thorndike Press, 1997.
6. Geist W. “Interview with Woody Allen.” Rolling Stone, 9 apr 1987, p. 39-88.
7. Jones K. “Woody Allen interview.” Film Comment, May-June 2011. Available at: https://www.filmcomment.com/article/woody-allen-the-film-comment-interview/ May-June 2011. (accessed: 10.10. 2024).
8. Karakhan L. “Ryadom s Evropoy. Razmyshlenia na temy XXVI kinofestvalya v Karlovykh Varakh” [By the side of Europe. Reflections on the themes of XXVI Filmfestival in Karlovy Vary]. Iskusstvo kino [The art of cinema]. 1989, no. 3, p.115-127. (in Russian.)
9. Lotman Yu.M. Kultura I Vzryv [Culture and Explosion]. Moscow, Gnozis, 1992. (in Russian).
10. Pugachov P. “Mnogoyvazhaemy: kak Chekhov povliyal na kino” [Highly Honoured: How Chekhov Influenced on Cinema]. Kinopoisk, 29 Jan 2025. Available at: https://www.kinopoisk.ru/media/article/4010648/). (accessed: 01.02.2025). (in Russian).
11. Shkurny A. “Conveying the tragedy through comedy: Woody Allen.” Filmstage, 14 October, 2022. Available at: https://filmustage.com/blog/author/alex/ (accessed: 06.10. 2024).
12. Syomkin A.D. “"Ili znat’ dlya chego zhivyosh, ili zhe vsyo pustyaki, tryn-trava". K voprosu o teleologicheskoy paradigme chekovskogo mira.” [“Either to Know What You Live for, or Everything is Nothingness, trifle”. Revisiting teleological paradigm of Chekhov’s World]. Russkaya khistianskaya gumanitarnaya akademia. Sankt-Peterburg, 2014. P. 221-234. (in Russian).
13. Vygotsky L.S. Psykhologia iskusstva [Psychology of Art]. Moscow, Iskusstvo, 1968. (in Russian).
14. Zingerman B.I. Teatr Chekhova I ego mirovoye znachenie [Chekhov’s Theatre and its Worldwide Significance]. Moscow, Nauka, 1988. (in Russian).
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рис. 1. День благодарения. Кадр из фильма «Ханна и ее сестры», реж. Вуди Аллен
Рис. 2. Ханна (Миа Фэрроу), Ли (Барбара Херши) и Холли (Дайана Уист). Кадр из фильма «Ханна и ее сестры», реж. Вуди Аллен
Рис. 3. Микки (Вуди Аллен) беседует с пастором. Кадр из фильма «Ханна и ее сестры», реж. Вуди Аллен
Рис. 4. Рената (Дайан Китон), Джои (Мэри Бёрт Херт) и Флин (Кристин Гриффит). Кадр из фильма «Интерьеры», реж. Вуди Аллен
Рис. 5. Лейн (Миа Фэрроу). Кадр из фильма «Сентябрь», реж. Вуди Аллен
Рис. 6. Ева (Джеральдин Пейдж). Кадр из фильма «Интерьеры», реж. Вуди Аллен
О журнале
- История журнала
- Редакционный совет и редакционная коллегия
- Авторы
- Этические принципы
- Правовая информация
- Контакты
Авторам
- Регламент принятия и рассмотрения статьи
- Правила оформления статьи
- Правила оформления сносок
- Правила оформления списка литературы
Номера журналов
- Артикульт-60 (4-2025)
- Артикульт-59 (3-2025)
- Артикульт-58 (2-2025)
- Артикульт-57 (1-2025)
- Артикульт-56 (4-2024)
- Артикульт-55 (3-2024)
- Артикульт-54 (2-2024)
- Артикульт-53 (1-2024)
- Артикульт-52 (4-2023)
- Артикульт-51 (3-2023)
- Артикульт-50 (2-2023)
- Артикульт-49 (1-2023)
- Артикульт-48 (4-2022)
- Артикульт-47 (3-2022)
- Артикульт-46 (2-2022)
- Артикульт-45 (1-2022)
- Артикульт-44 (4-2021)
- Артикульт-43 (3-2021)
- Артикульт-42 (2-2021)
- Артикульт-41 (1-2021)
- Артикульт-40 (4-2020)
- Артикульт-39 (3-2020)
- Артикульт-38 (2-2020)
- Артикульт-37 (1-2020)
- Артикульт-36 (4-2019)
- Артикульт-35 (3-2019)
- Артикульт-34 (2-2019)
- Артикульт-33 (1-2019)
- Артикульт-32 (4-2018)
- Артикульт-31 (3-2018)
- Артикульт-30 (2-2018)
- Артикульт-29 (1-2018)
- Артикульт-28 (4-2017)
- Артикульт-27 (3-2017)
- Артикульт-26 (2-2017)
- Артикульт-25 (1-2017)
- Артикульт-24 (4-2016)
- Артикульт-23 (3-2016)
- Артикульт-22 (2-2016)
- Артикульт-21 (1-2016)
- Артикульт-20 (4-2015)
- Артикульт-19 (3-2015)
- Артикульт-18 (2-2015)
- Артикульт-17 (1-2015)
- Артикульт-16 (4-2014)
- Артикульт-15 (3-2014)
- Артикульт-14 (2-2014)
- Артикульт-13 (1-2014)
- Артикульт-12 (4-2013)
- Артикульт-11 (3-2013)
- Артикульт-10 (2-2013)
- Артикульт-9 (1-2013)
- Артикульт-8 (4-2012)
- Артикульт-7 (3-2012)
- Артикульт-6 (2-2012)
- Артикульт-5 (1-2012)
- Артикульт-4 (4-2011)
- Артикульт-3 (3-2011)
- Артикульт-2 (2-2011)
- Артикульт-1 (1-2011)
- Отозванные статьи
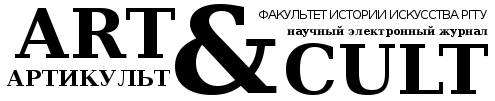
.png)