Е.Е. ГУСАРОВА, М.Д. САМАРКИНА Вампиры в западном кино: визуальный аспект (анти)гуманизма
ВАМПИРЫ В ЗАПАДНОМ КИНО: ВИЗУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ (АНТИ)ГУМАНИЗМА
Научная статья
УДК 791.43.04+791.43-2
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-94-103
Дата поступления: 19.03.2025. Дата одобрения после рецензирования: 06.08.2025. Дата публикации: 25.10.2025.
Автор-1: Гусарова Елизавета Евгеньевна, магистрант, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: ms.elisa02@mail.ru
ORCID ID: 0009-0004-5311-0788
Автор-2: Самаркина Мария Дмитриевна, преподаватель кафедры теоретической и исторической поэтики, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: enkelinaiivius@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-9489-8509
Аннотация: Статья посвящена вопросу «гуманизации» вампиров в новейшем кинематографе. В рамках исследования представлен анализ следующих фильмов: «Сумерки» (2008–2012), «Выживут только любовники» (2013), «Реальные упыри» (2014), «Вампиры средней полосы» (2021; первый сезон), «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (2023), «Носферату» (2024). Основной фокус изучения направлен на новые формы репрезентации вампиризма: семейное сожительство, публичность жизни, изменения в способе употребления крови и общая трансформация взглядов на страдания и смерть. Наряду с новой традицией сохраняются черты старой, связанной с фольклором, эпидемией и эротизмом. Ставится вопрос о перспективах развития образа вампира на киноэкране. Делаются выводы о природе гуманизма и антигуманизма в фильмах о вампирах: пока вампиризм служит продлению человеческой жизни, он возвышает человека и становится в высшем смысле гуманистичным. Если же вампиризм направлен на переход человека в посмертное бытие, трансформирует и уродует тело, тем самым «унижая» индивида смертью, он антигуманистичен.
Ключевые слова: вампиры, Носферату, гуманизм, антигуманизм, эвтаназия, ужасы, жанры, смерть
VAMPIRES IN WESTERN CINEMA: THE VISUAL ASPECT OF (ANTI)HUMANISM
Research article
UDC 791.43.04+791.43-2
DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-94-103
Received: March 19, 2025. Approved after reviewing: August 06, 2025. Date of publication: October 25, 2025.
Author-1: Gusarova Elizaveta Evgenievna, master’s student, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia3), e-mail: ms.elisa02@mail.ru
ORCID ID: 0009-0004-5311-0788
Author-2: Samarkina Mariya Dmitrievna, lecturer, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: enkelinaiivius@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-9489-8509
Summary: The article is devoted to the issue of the “humanization” of vampires in the latest cinema. The study provides an analysis of the following films: “Twilight” (2008–2012), “Only Lovers Left Alive” (2013), “What We Do in the Shadows” (2014), “Central Russia’s Vampires” (2021; first season), “Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person” (2023), “Nosferatu” (2024). The main focus of the study is on new forms of representation of vampirism: marital cohabitation, publicity of life, changes in the way blood is consumed, and a general transformation of views on suffering and death. Along with the new tradition, the features of the old one associated with folklore, epidemic and eroticism remain. The question is raised about the prospects for the development of the vampire image on the cinema screen. Conclusions are drawn about the nature of humanism and anti-humanism in vampire films: while vampirism serves to prolong human life, it elevates a person and becomes humanistic in the highest sense. If vampirism is aimed at the transition of a person into the afterlife, transforms and disfigures the body, thereby “humiliating” the individual with death, it is anti-humanistic.
Keywords: vampires, Nosferatu, humanism, anti-humanism, euthanasia, horror studies, genre, death studies
Для цитирования:
Гусарова Е.Е., Самаркина М.Д. Вампиры в западном кино: визуальный аспект (анти)гуманизма // Артикульт. 2025. №3(59). С. 94-103. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-94-103
Целью нашей статьи является анализ визуального аспекта гуманизма вампиров в современном западном кинематографе. В качестве материала нашего исследования будут представлены следующие фильмы: «Сумерки» (2008–2012), «Выживут только любовники» (2013), «Реальные упыри» (2014), «Вампиры средней полосы» (2021; первый сезон), «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (2023), «Носферату» (2024). Стоит отметить, что «Вампиры средней полосы», являясь российским сериалом, также входят в эту традицию репрезентации вампиризма. Отдельно обговорим, что мы анализируем серию фильмов «Сумерки» не как экранизацию, а как самостоятельное произведение, повлиявшее на визуальную культуру изображения вампиров и на поп-культуру в целом. То же стоит сказать и о «Носферату» Р. Эггерса: хоть он и является ремейком фильма 1922 года Ф. В. Мурнау, на наш взгляд, он куда больше зависит от вампирского кино последних лет, чем своего первоисточника. Кроме того, мы не анализируем такие произведения, как фильм «Ночной дозор» (2004) или сериал «Дневники вампира» (2009–2017), потому что их литературные первоисточники написаны до 2000 года. Наконец, выбранные нами произведения обладают наибольшим числом схожих черт, которые будут последовательно раскрыты в статье. По этой же причине не анализируются, например, такие фильмы, как «Девушка возвращается одна ночью домой» (2014) или «Колыбельная» (2010).
Исходя из заявленной цели, мы ставим перед собой задачи проанализировать:
∙ критерии гуманизма у вампиров: семейное и коммунальное сожительство; отношение к публичности жизни; визуализации вампиров; идея отказа от употребления крови; отношение к медицине и идее смерти;
∙ жанровую специфику в связи с трансформацией центрального образа;
∙ соотношение двух традиций изображения вампиров в кино;
∙ возможности возрождения вампирского образа в актуальном кинематографе на примере «Носферату» Р. Эггерса.
Гуманизм
Прежде чем приступить к непосредственному выполнению заявленных задач, важно раскрыть понятие гуманизма и объяснить причину, по которой в работе поднимается этот вопрос.
«Философский словарь» Г. Шмидта определяет гуманизм как: «рефлектированный антропоцентризм, который исходит из человеческого сознания и имеет своим объектом ценность человека, за исключением того, что отчуждает человека от самого себя, подчиняя его сверхчеловеческим силам и истинам или используя его для недостойных человека целей» [Шмидт, 2003]. Согласно «Новой философской энциклопедии», в центре философии гуманизма «человек с его земными делами и свершениями, с присущими его природе способностями и влечениями, с характерными для него нормами поведения и отношениями» [Новая философская энциклопедия, 2010]. Как видно из приведённых исследований, составляющими человечности являются представления о достоинстве, нормы поведения и отношений, противопоставление сверхчеловеческим силам и отчуждению от самого себя.
Исследователи спорят о том, насколько понятие гуманизма применимо к современным вампирам. Одни убеждены во всё большей «гуманизации» вампиров [Михайлова, Одесский, 2019], другие утверждают обратное, говоря об антигуманистических тенденциях современной культуры (см. спор Сергея Мохова и Дины Хапаевой в «Археологии русской смерти») [Хапаева, 2017]. В настоящей статье мы разберём, из чего состоит подобная «гуманизация» и почему взгляды на неё так различаются.
Семья и публичность жизни
Если рассматривать современную репрезентацию жизни вампиров, то можно увидеть важную перемену: теперь они живут не одни. Классический вампир – это романтический одиночка, современные же вампиры живут как семья, реальная или искусственно созданная: это кланы, связанные соседскими отношениями («Реальные упыри») или родственными узами («Вампирша-гуманистка»). Но что такое «кровные узы» в понятиях вампиризма? Важно указать на двойственность этого словосочетания: если в человеческой семье кровная связь означает родственную связь, то в «семье вампиров» быть связанным кровью означает быть связанным общим интересом (или общей проблемой добычи еды). В этом смысле семья вампирши-гуманистки Саши связана человеческими отношениями (мама и папа являются биологическими родителями героини), между тем как другие семьи – Каллены, семья деда Славы – созданы искусственно (хотя, например, Жан озабочен продолжением вампирского рода половым путём). К игре слов кровного родства относится слоган «Вампиров средней полосы»: «Семья – это у них в крови».
Семейственность означает, что каждый персонаж принимает на себя определённую роль. Она не всегда эксплицирована, и, тем не менее, такое восприятие персонажей содержится в зрительской рефлексии, исходя из гендерного и демографического состава семьи. Сложно провести чёткую параллель с нуклеарной семьёй, но её общие черты сохраняются: в них есть фигура патриарха (матриарха), вокруг которого строится ячейка общества. Самые младшие принимают роль детей (сыновья и дочери Калленов, Женёк), женщины среднего возраста – жены/матери (Эсме). Из этой цепочки отношений вытекает другая условность, а именно совокупность представлений о семье: уважать старших, защищать и обучать младших и т.д. На этих же представлениях построены фильмы о семейке Аддамс. Все, кто нарушит этот кодекс и причинит вред члену семьи, изгоняются из неё. Даже в кланах вампиры связаны взаимными обязательствами; это можно назвать взаимопомощью и даже любовью, но не только в романтическом смысле.
Другая вещь, которая связывает и ограничивает вампиров внутри семьи, – необходимость удовлетворять потребность в крови и одновременно скрывать свой статус от людей. Это приводит к тому, что у каждой семьи есть свой кодекс поведения, который в приведённых примерах часто сводится к правилу сокрытия своей природы и невредительства людям без причины. Часто вампирские семьи расширяются до кланов, которые вынуждены взаимодействовать друг с другом. В этом случае общий Вампирский кодекс чести (при его наличии) можно рассматривать как расширенный случай семейного.
Абстрактность образа вампира-одиночки обусловлена отчасти тем, что он не связан ни с кем иными отношениями, кроме как «хищник-жертва» (роль любовника и совокупление с жертвой предстают частным случаем этой практики). Каждый вампир носит маску, и в данном случае она не осложнена «общественной» ролью внутри клана, которая помогла бы расширить образ и придать ему человечность; а семья – это признак человечности. Интересно, что не всякое скопление вампиров должно приводить к созданию семьи: часто младшие вампиры превращаются в подобие армии для старшего. В фильме «Выживут только любовники» тоже можно говорить о семье, поскольку там важен не только любовный союз Адама и Евы, но и их отношения с сестрой Евы Авой и близким другом Марло; таким образом, выжить можно только с кем-то вместе.
В выбранных нами произведениях вампиры вынуждены взаимодействовать с людьми в открытом общественном пространстве, даже если не стремятся к этому. Они не выбирают отшельничество, в отличие от графа Орлока Ф. В. Мурнау. Их место жительства тоже меняется и становится ближе к людям: теперь это не замок в лесу на вершине горы, а обычный коттедж или панельный многоквартирный дом. Их социальный статус теряет свою привилегированность. Это можно объяснить историческим сдвигом, произошедшим за последние сто лет, и современными реалиями, где полное уединение невозможно из-за возникшего медиапространства. Вампиры проникают и в дисциплинарные институты: школу, больницу и полицию [Фуко, 1999]. Так, младшие Каллены вынуждены ходить в школу; существует целая группа сериалов, специализирующаяся на странных существах-школьниках (например, «Школа монстров» (2010), «Школа вампиров» (2006–2010), «Наследие» (2018–2022) или «Уэнздей» (2022–наст. вр.)). Как правило, такие заведения похожи на американскую школу или британский дормиторий, где ученики живут изолированно в общежитии. Вампиры также попадают в правоохранительные органы (как Аннушка из «Вампиров средней полосы») или взаимодействуют с ними как обычные граждане («Реальные упыри»).
Но самой излюбленной вампирской инстанцией становится больница: именно она обеспечивает легальный доступ к человеческому телу и крови («Вампиры средней полосы», «Выживут только любовники», «Сумерки», «Вампирша-гуманистка»). Вампиры работают врачами или скупают пакеты с кровью. Медицина оказывается связана с вампиризмом из-за доступа к телу и возможности нарушать его целостность (так, укус вампира метафорически связан с уколом шприца), а также из-за дискурса болезни и смерти.
Жизнь в городе трансформирует миф о вампире, оставаясь при этом мифом, то есть общеизвестным воспроизводимым культурным представлением [Михайлова, Одесский, 2019]. С изменившимися реалиями и современными технологиями также подвергается осмыслению возможность сфотографировать вампира [Самаркина, 2020]. Мифологизм вампиров также оказывается связан с историзмом: явившись из древности и дожив до современности, они могут встречать многих культурных и исторических деятелей (или являться таковыми), участвовать в знаковых исторических событиях или появляться в их результате.
Современное экранное воплощение вампира внешне почти не отличается от человеческого. Единственная черта, указывающая на их инаковость и остающаяся неизменной, – это зубы. Условно вид вампирских зубов можно разделить на три группы.
Первая группа – самая распространенная и хорошо узнаваемая: ряд человеческих зубов с двумя длинными клыками. Благодаря кино и маркетингу эта форма зубов стала символом вампирского бренда, подобно как летучая мышь – знаком Бэтмена. Это специфическое отличие вампиров как рода монстров, и именно такая форма чаще всего всего появляется в анализируемых нами фильмах.
Второй тип вампирской челюсти является отсылкой на конкретный кинематографический образ Носферату. При такой форме зубов острыми являются не клыки, а передние резцы. По своему расположению зубы Носферату похожи на крысиные, что вполне соответствует метафоре вампиризма как чумы. Их можно заметить в «Салемских вампирах» (1979); но в основном этот тип гораздо менее популярен, чем первая группа.
Наконец, существует третий тип, где все зубы на обеих челюстях являются одинаково длинными и острыми. Эта форма челюсти может быть присуща любому монструозному существу без определенного генезиса, от орка до хищного цветка. Клыки вместо зубов – указание на звериность и хищничество как таковое, и использование такой формы в визуальном образе является полной противоположностью тенденции очеловечивания. Интересно, что этот тип встречается у двух Носферату новейшего кинематографа – Петера из «Реальных упырей» и графа Орлока из «Носферату» Эггерса.
Кроме того, зубы связаны с эротическим генезисом вампира: «Поцелуй вампира приравнивается к укусу, а укус, в свою очередь, намекает на первую сексуальную близость. Если девушка доходит до неё, это конец: девушка обречена» [Вдовин, 2024, с. 123]. Эта составляющая образа вампира актуальна по сей день: Эдвард преследует Беллу по ночам, Виаго стоит под окнами дома престарелых, где живёт возлюбленная его молодости. Так или иначе, зубы сохраняются как индекс потребления крови, даже если герои отказались от убийства людей.
Отказ от употребления крови
Вампиры семейства Калленов противопоставлены своим хищным собратьям, например, клану Вольтури: первые не пьют кровь людей, заменяя её кровью животных, и называют себя «вегетарианцами». Как бы ни была парадоксальна и комична эта самоидентификация, она показательна стремлением не навредить человеку, трансформируя отношения «охотник-жертва» в нечто другое. Вампиры Адам и Ева и их друг Марло в фильме «Выживут только любовники» руководствуются схожими соображениями и поэтому пользуются донорской кровью, которую «покупают» у местных врачей. Разумеется, такой способ также весьма сомнителен относительно норм морали, потому что кровь сдаётся для других целей и, по сути, вампиры крадут её (впоследствии им приходится горько расплачиваться за это). То же самое делают вампиры из Смоленска (сериал «Вампиры средней полосы»), когда Жан, работающий врачом в местной больнице, приносит донорскую кровь для всех членов семьи деда Славы. Если Адам и Ева и кусают людей, то, в отличие от легкомысленной Авы, в соответствии со своей мировоззренческой позицией, выраженной в названии и в финале фильма.
Главная героиня фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» полностью соответствует своему прозвищу: детская травма не позволяет ей вместе со всей семьёй участвовать в охоте на людей. Поэтому она ищет свою «жертву» среди тех, кто хочет расстаться с жизнью по своему желанию.
Может показаться, что «Реальные упыри» составляют исключение, поскольку здесь вампиры не отказываются от крови. Однако сюжет фильма показывает умирание старого порядка, основанного на беспорядочной жестокости (его олицетворяет Петер, который скорее напоминает беспомощного старика), и приближение к новому образу жизни, в котором есть место дружбе вампира с человеком (Ник и Стю), примирению со старым врагом (вампиры и оборотни) и любви (Виаго и Катрин). Причём он умирает буквально: под лучами солнца погибает Петер, самый древний вампир, и на его место приходит новичок Ник, который и становится катализатором перемен.
Итак, все вампиры по ходу сюжета так или иначе решают этическую дилемму, приближаясь к возможности жить рядом с человеком и запрещая охоту как таковую, что скорее приравнивает вампира к паразиту, чем к хищнику. Мотив столкновения человеческого и не-человеческого, смены образа жизни и противостояния кровожадности есть во всех упомянутых выше фильмах, являясь сюжетообразующими.
Отношение к смерти
Связь крови с жизнью и здоровьем человека в культуре прослеживается давно. Древние греки считали печень вместилищем жизни, поскольку она является кровеобразующим органом [Мароши, 2016, с. 129]. Исследователи указывают на генезис вампиров не просто в болезнях (порфирия), но в эпидемиях: «Не совсем ясным при этом остается механизм “эпидемиальности” вампиризма (укушенный вампиром сам также становится вампиром), однако, как можем мы предположить, это “явление” – относительно позднее и кристаллизовалось уже во времена странной эпидемии вампиризма в Европе в XVIII в.» [Михайлова, Одесский, 2019, с. 71]. Механизм эпидемии – это заражение в первую очередь самых близких; возможно, современные варианты семейного сожительства вампиров являются остаточным следом такой «заразности» вампиризма.
В этом случае медицинские учреждения становятся «центром управления» жизнью и смертью. В «Сумерках» старший Каллен, работая врачом в больнице, в 1918 году спасает Эдварда, умирающего от испанки. Беллу не обращают в вампира, до тех пор пока ей не становится плохо при родах, и это становится единственным способом спасти и её, и ребёнка. Вампиризм – «лекарство» от смерти, поэтому обращать живую и здоровую Беллу в вампира кажется неоправданным расточительством этого дара.
Марло в «Выживут только любовники», умирая от человеческой болезни, передающейся через кровь (в работе Сонтаг ей лучше всего соответствует СПИД [Сонтаг, 2016]), делает это не в больнице, а дома, в окружении близких, как было положено до медикализации смерти: «Важная часть представления о хорошем умирании в XIX веке: спокойная смерть в кровати в окружении близких. Без боли и без безобразных физиологических проявлений болезни – иными словами, достойная смерть, соизмеримая со статусом человека» [Мохов, 2020, с. 92].
Дед Слава в «Вампирах средней полосы» отказывается превращать больную раком Ирину Витальевну, главу Хранителей, в вампира, несмотря на её шантаж и просьбы. С одной стороны, им явно руководит идея отстоять честь своей семьи, но, как нам кажется, тем самым здесь акцентируется мысль: лучше умереть от рака, чем стать вампиром. Неслучайно Стейси Эббот в своей работе «Undead Apocalypse» [Abbott, 2016] называет главу о вампирах «’Cancer with a Purpose’: Putting the Vampire Under the Microscope». В ней она проводит параллель между современным образом вампира и этическими вопросами телесности, которая подвергается постоянному медицинскому проникновению и вскрытию. Превращение в вампира продлевает жизнь в критических состояниях, но не всегда делает неуязвимым для болезней и не лечит человека от рака.
Вампирша-гуманистка Саша, отказываясь от употребления крови невинных жертв, в финале (вместе с отчаянным добровольцем, случайно обращённым ею в вампира) находит выход: вместе с новым другом они участвуют в эвтаназии (разрешена в Канаде) престарелой больной. Желание не навредить людям снова приводит героев в больницу, но их ассистирование в смерти оценивается как положительный финал. Интересно, что, как показывают опросы, среди сторонников эвтаназии – в том числе вегетарианцы [Мохов, 2020, с. 68-69]. В этом разрезе действия вампирши, которая отказывается отнимать кровь и участвует в эвтаназии, кажутся логичными.
Вампир – просто медицинское состояние, болезнь, требующая особого лечения. «Этот контраст между жизнью и смертью был низведён до контраста между жизнью и болезнью. Болезнь (приравнивается теперь к смерти) – это то, что противостоит жизни» [Сонтаг, 2016, с. 74-75]. Жизнь вампира стала такой соблазнительной, что, чтобы создать конфликт и дилемму между человеческим и вампирским, режиссёрам и сценаристам приходится бороться с этим новым мифом. Отсюда и выражение Ника из «Реальных упырей» – «Быть вампиром фигово, так что не верьте рекламе».
Во всех этих фильмах сюжет посвящён не тому, как люди охотятся на вампира и освобождают его от бремени вечной жизни. Теперь вампиры должны жить, и это особым образом влияет на трансформацию жанра фильмов о них.
Жанровая специфика
Страх – это крайне противоречивая эмоция. Не всё, чего мы боимся, обязательно вредит нам [Липавский, 2005]. С другой стороны, нам может казаться, что оно несёт опасность. В широком смысле любой страх – страх смерти [Скотт Пулл, 2023], и чувство безопасного «своего» противопоставляется опасному «чужому».
В дискурсе о вампирах в кинематографе рецепция образа напрямую связана с жанровым определением. Первый вампир в кино, Носферату, появился как персонаж фильма ужасов, снятого в русле сюрреализма и немецкого экспрессионизма. Ничто не заставляет сомневаться в фантастической природе вампиров, поэтому в жанровом определении фильмов о них всегда есть указание на фэнтези. Казалось бы, эта же судьба должна была постигнуть наименование ужасов – однако не все фильмы про вампиров принадлежат к этому жанру. Согласно определению А. Ю. Ионова, к жанру ужасов относятся те фильмы, в которых есть «сверхъестественные и безжалостные создания» [Ионов, 2015]. Если вампиры в фильмах перестали быть таковыми, следовательно, их изображение претерпело необратимые изменения, и из него ушёл элемент чужеродности и жестокости. В представленной подборке представлено жанровое разнообразие – комедии, драмы и мелодрамы.
Система персонажей «Реальных упырей» и «Вампиров средней полосы» дублирует друг друга. Так, в обоих фильмах есть узнаваемые вампирские типажи, связанные с традицией их изображения и восприятия: древний вампир (Петер – пародия на Носферату Мурнау – и дед Слава (Святослав Вернидубович Кривич) – буквально кривич), исторический вампир (Владислав, отсылающий к Владу Цепешу) и дед Слава (см. предыдущий комментарий)), романтический вампир (Виаго и Жан), молодёжный вампир (Ник и Женёк), жена вампира (Полина и Ольга) и женщина-вамп (хоть они принадлежат к разным типажам, это одни из немногих женских ролей, устоявшихся в вампирской культуре, и в нашем случае их роли принимают те же героини; см. статью С. Беньяминовой о трансформации современного женского образа вампира [Беньяминова, 2023]).
«Реальные упыри» и «Вампиры средней полосы» используют один и тот же набор шаблонных образов вампиров для пародирования, но по-разному: в «Вампирах средней полосы» мифы о вампиризме – основной источник комического. Пародируются не сами вампиры: они используются для сатиры на существующий строй, в который вписаны в том числе через инстанции надзора (больницу и полицию). В «Реальных упырях» же шаблонные образы вампиров развенчиваются под пристальным взглядом зрителя и оператора. Этому способствует художественная стратегия псевдодокументальности (мокьюментари).
Жанр «исповеди вампира» со времён «Интервью с вампиром» (1994) претерпел значительную эволюцию, которая обусловлена изменениями в медиапространстве [Хапаева, 2020]. Теперь вампиры сами свидетельствуют о своей жизни: приглашают к себе домой и погружают в свою рутину (операторы при этом не разделяют судьбу Дэниела из «Интервью»). Тем не менее, жизнь вампиров внешне не меняется – они по-прежнему охотятся на людей. В этом случае операторы, а вместе с ними и зрители, как бы становятся соучастниками преступлений вампиров, которые не воспринимаются как преступления из-за комического переворота. Рассмотрим сцену убийства женщины: Виаго сидит на диване с жертвой и в какой-то момент начинает стелить рядом с ней газеты. Всё это могло бы быть воспринято как знак приближения смерти, если бы ему не предшествовал длинный монолог Виаго о том, как тяжело отстирывать кровь с дивана. Прозаичное подстилание газетки переворачивает ситуацию и напоминает о человеческой сути проблем, с которыми сталкиваются вампиры: график уборки по дому, проблемы пожарной безопасности, химчистка и так далее. Похожее демонстрируется и в «Вампирше-гуманистке»: родители отводят свою травмированную дочь к психологу, потому что озабочены вопросом её будущей самостоятельной взрослой жизни. Из воплощения смерти вампиры становятся соседями людей; сообществом фриков с особенной жизнью; людьми, живущими под маской вампиров.
Романтическое фэнтези исходит о представлении вампиров как романтических героев, каковым, например, является Эдвард. Визуально это выражено через его худобу, бледную кожу и «загадочность». Вампиризм как дар лишается своих неприглядных черт: «новые» вампиры не боятся солнца и обладают необыкновенной красотой. Чаще всего у них отсутствует второе, «настоящее» лицо, которое предстаёт старым и ужасным. Бессмертие, сила и модельная внешность вампира превращают его из изгоя в популярного персонажа массовой культуры.
Возрождение вампира в новейшем кинематографе
Для того чтобы вампир снова ужасал, он должен стать «чужим», поэтому в «Носферату» 2024 года персонаж дистанцирован не только географически, но и исторически. Все известные вампиры последних лет дожили до современности, и даже для зрителей «Носферату» Мурнау 1922 года изображаемые события не были далёкой древностью, тогда как граф Орлок Эггерса живёт в 1838 году. Кроме того, он говорит и пишет на непонятном языке как настоящий чужеземец, а его внешность необычна, даже если все знают, как он выглядел в фильме Мурнау. И потому он одинок, потому что одиноким вампир остался в прошлом. Его образ мифологизирован, и в этом мифе он становится неузнаваем.
Орлок – хищник, в нём сильно животное начало, и тот, кто признаёт его своим хозяином, не делает различий между кровью человека и кровью животного. Поэтому его зубы – не удлиннёные резцы крысы, хотя на это и делается отсылка в одной из реплик, а ряд заточенных острых клыков.
Вампир несёт в себе культурную память чумы и связанных с ней символов и метафор. Одним из них является Дева и Смерть: он берёт своё начало с многочисленных «Плясок смерти», появление которых связывают с европейскими эпидемиями чумы [Нессельштраус, 2013]. Что интересно, этот мотив очень эротизирован. Например, в «Алфавите смерти» (1524) Ганса Гольбейна Младшего скелет – символ Смерти – суёт одну руку девушке промеж ног, другой сжимает её грудь. Мотив танатофилии есть и в фильме Эггерса, причём, как отмечает Дина Хапаева, эта черта в трактовке образа вампира является довольно современной [Хапаева, 2020]. Опыт пандемии есть и у человека современности, и потому историческая дистанция в данном случае взывает к памяти эпидемий прошлого.
Вампир в «Носферату» 2024 года, в отличие от всех своих предшественников, выглядит не просто болезненно бледным, старым или немощным – он является гниющим трупом, с язвами по телу, в гробу его едят опарыши и грызут крысы. Крысы также являются всего лишь символом, поскольку саму чуму распространяют блохи; таким образом, персонажи, у которых жили коты (Эллен и доктор-оккультист фон Франц), должны были быть в безопасности. По описаниям эффектов, которые производит чума на тело, зеркальному мотиву некрофилии, метонимии Орлока и крыс, а также по зловонию, которое исходит от его тела, зрители могут распознать в нём труп, который «умирает» от опасной болезни и ищет в вампиризме спасения от её смертоносности. На такое изображение вампира, как нам кажется, повлияла фотографическая культура: «Фотография опознаёт смерть в признаках гниения и разложения» [Васильева, 2019, с. 132], которая по времени появления совпадает с переменами в культуре смерти: «При этом медицина в XIX веке развивалась бурно, продолжительность жизни увеличивалась, а умирающих в стенах медицинских учреждений становилось все больше. Мучения от болезней растягивались во времени, и с ними надо было что-то делать: идея крайне болезненного умирания, полного всевозможных биологических подробностей, не совпадала с концепцией “достойной и приличной жизни”; лондонский денди, в красивом фраке и с напудренными щеками, не мог умирать в блевоте и фекалиях, изъеденный опухолями» [Мохов, 2020, с. 54].
Вампиризм – это вирус. При этом первыми в окружении главной героини погибает именно семья друга, у которого они остановились на время, кроме того, женщина ждёт ребёнка – в противовес невесте героя, которая «беременна» только своей болезнью. Вампиризм бесплоден: «Рак – демоническая беременность», – пишет Сонтаг [Сонтаг, 2016, с. 16], и эта метафора, на наш взгляд, хорошо описывает статус Эллен в сюжете.
Медицина и её развитие играют не последнюю роль в фильме Эггерса. Однако в отношении Эллен с современной точки зрения это выглядит как бессмысленное насилие и издевательство: ей не верят, когда она точно знает, что с ней происходит. Показанное кровопускание больше похоже на сатиру. На первый план выходит её меланхолия (особенно интересно, что современный аналог её – депрессия, которой с точки зрения истории культуры подвержены именно женщины [Юханнисон 2022]). У Сонтаг встречается мысль о параллели между меланхолией и туберкулёзом, частым заболеванием прошлых веков, которое было поэтизировано и романтизировано [Сонтаг 2016]. Меланхолия и безумие визуально эстетизированы. Рак и депрессия никогда не украшают человека. Оба визуальных мотива связаны с психическим состоянием главной героини.
В своём анализе фильма Ларса фон Триера «Меланхолия» современный философ Бён-Чхоль Хан развивает мысль о том, что «эротическое желание побеждает депрессию. Он выводит из ада Однообразия к атопии и даже утопии всецело Другого» [Хан, 2023, с. 36]. И Эрос этот неразрывно связан со встречей со смертью, апокалипсисом. Ад Однообразия Эллен – мужчины, обладающие властью и деньгами, а сама девушка одержима идеей смерти и предрешённости встречи со Смертью. Это сближает её с Жюстин, главной героиней «Меланхолии», как и образ нимфы – Офелии с картины Милле 1852 года, умирающей в цветах. А чума, которую приносит Носферату, – предвестница конца света. Эллен влечёт к Смерти. И если раньше достаточно было намекнуть на секс укусом вампира в шею, то сейчас необходимо продемонстрировать сцену их соития со всей фигуральностью, чтобы иллюстрировать мысль, высказанную Бён-Чхоль Ханом.
Во главу сюжета поставлена не греховность вампира или девушки, поддавшейся его обаянию, не паранормальность его существования и даже не его чудовищность, а отношения Эллен и Орлока, вносящие в картину настоящего ужаса оттенок мелодраматизма.
В вампире Носферату в интерпретации Эггерса акцентированы и осмыслены черты как нового, так и старого вампиризма. Орлок 2024 года не привлекателен, живёт один, распространяет вампиризм как чуму. Он боится смерти и разложения и потому потерял свою человечность. Разложение – метафора депрессии, которую можно преодолеть, воззвав к Эросу. Дистанцировав этого вампира от нас, как больного на карантине, Эггерс наполнил старый образ современным содержанием.
Заключение
Современный визуальный код вампира на экране основан на двух тенденциях. Первая отсылает его к человеческому образу жизни: семья, публичность и цивилизованность жизни, отказ от жертв, особое отношение к смерти. Вторая же как будто противостоит ей и основана на фольклоре и мифологизации вампира, эпидемии и эротизме. От Эдварда Каллена до вампирши-гуманистки Саши наблюдается усиление, вариации и развитие первой тенденции. Тем не менее, режиссёры не отказываются от второго способа, который оказывается более традиционным. Вместе эти тенденции дополняют друг друга. На фоне подобной гибридизации происходят процессы, свойственные современной культуре в целом: медикализация телесных и психических процессов и высокое влияние медиасреды. Описанные изменения в репрезентации вампиров, а также вариативность стратегий их изображений связаны с изменившимся отношением к смерти. Согласно Бён-Чхоль Хану, смерть в современной культуре лишается своего статуса логичного заключения жизни, отсюда происходит пересмотр отношения к ней [Хан, 2023, с. 21]. В этом случае вампиризм из вида посмертия превращается в инструмент продления жизни.
Выявленные нами тенденции проявляют себя массово и не зависят ни от жанра, ни от того, является ли кино авторским или кассовым. В дальнейшем представляется возможным рассмотреть репрезентации вампиризма в рамках других традиций, например, восточноазиатской. Также вампиры являются свидетелями человеческой истории, хранителями культурной и исторической памяти, и эволюция их образа также может быть в дальнейшем рассмотрена в рамках memory studies.
Гуманизм возвышает человеческое. В таком случае антигуманизм – это унижение человеческого, и унижается человечество преимущественно смертью, которая подчёркивает его хрупкость. Пока вампиризм служит продлению человеческой жизни – борется с раком и прочими болезнями и является легальным способом получить бессмертие за условную плату – он возвышает человека и становится в высшем смысле гуманистичным. Можно проследить также, как ведёт себя тело при этом новом вампиризме: оно становится красивее и сильнее. Если вампиризм, наоборот, «унижает человека смертью», сокращая его жизнь и уродуя тело, он антигуманистичен.
ФИЛЬМОГРАФИЯ
1. Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца / Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (2023, реж. Ариан Луи-Сейз, Канада), игр.
2. Вампиры средней полосы (2021, реж. Антон Маслов, Россия), игр.
3. Выживут только любовники / Only Lovers Left Alive (2013, реж. Джим Джармуш, Великобритания/Германия/Греция/Франция), игр.
4. Девушка возвращается одна ночью домой / A Girl Walks Home Alone at Night (2014, реж. Ана Лили Амирпур, США), игр.
5. Дневники вампира / The Vampire Diaries (2009–2017, реж. Крис Грисмер и др., США), игр.
6. Интервью с вампиром / Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994, реж. Нил Джордан, США), игр.
7. Колыбельная / Kołysanka (2010, реж. Юлиуш Махульский, Польша), игр.
8. Меланхолия / Melancholia (2011, реж. Ларс фон Триер, Дания/Швеция/Франция/Германия), игр.
9. Наследие / Legacies (2018, реж. Джули Плек, США), игр.
10. Носферату / Nosferatu (2024, реж. Роберт Эггерс, США), игр.
11. Носферату, симфония ужаса / Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922, реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, Германия), игр.
12. Ночной дозор (2004, реж. Тимур Бекмамбетов, Россия), игр.
13. Уэнздей / Wednesday (2022, реж. Тим Бёртон, США), игр.
14. Реальные упыри / What We Do in the Shadows (2014, реж. Тайка Вайтити, Джемейн Клемент, Новая Зеландия/США), игр.
15. Салемские вампиры / Salem's Lot (1979, реж. Тоуб Хупер, США), игр.
16. Семейка Аддамс / The Addams Family (1991, реж. Барри Зонненфельд, США), игр.
17. Сумерки / Twilight (2008, реж. Кэтрин Хардвик, США), игр.
18. Сумерки. Сага. Затмение / The Twilight Saga: Eclipse (2010, реж. Дэвид Слэйд, США), игр.
19. Сумерки. Сага. Новолуние / The Twilight Saga: New Moon (2009, реж. Крис Вайц, США), игр.
20. Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 / The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011, реж. Билл Кондон, США), игр.
21. Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 / The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012, реж. Билл Кондон, США), игр.
22. Школа вампиров / Die Schule der kleinen Vampire (2006–2010, реж. Роберт Арквайт и др., Германия/Италия/Люксембург), анимац.
23. Школа монстров / Monster High: New Ghoul at School (2010, реж. Оду Паден, Эрик Радомски, США), анимац.
ЛИТЕРАТУРА
1. Беньяминова С. Героиня, мстительница, мать: женский образ вампира в американском кинематографе XXI века // Versus. 2023. №3(4). С. 196-216.
2. Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. – Москва: НЛО, 2019.
3. Вдовин А. Монстры у порога. Дракула, Франкенштейн, Вий и другие литературные чудовища. – Москва: МИФ, 2024.
4. Ионов А.Ю. Определение жанра хоррор на основе жанровой теории Рика Олтмена // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2015. №2. С. 107-114.
5. Липавский Л. Исследование ужаса. – Москва: Ad Marginem, 2005.
6. Мароши В.В. К мифопоэтике печени в европейской и русской литературе // Имагология и компаративистика. 2016. №1. С. 128-152.
7. Михайлова Т., Одесский М. Граф Дракула: опыт описания. – Москва: РГГУ, 2019.
8. Мохов С. История смерти. Как мы боремся и принимаем. – Москва: Индивидуум, 2020.
9. Нессельштраус Ц.Г. «Пляски смерти» в западноевропейском искусстве XV века как тема рубежа Средневековья и Возрождения // Проблемы развития зарубежного искусства от Средних веков к Новому времени. Памяти Цецилии Генриховны Нессельштраус (1919–2010): Сб. статей / науч. ред. Раздольская В.И., Лопатина Т.А.; сост. Раздольская В.И., Лопатина Т.А. – Санкт-Петербург: Ин-т имени И.Е. Репина, 2013. – C. 23-34.
10. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд; председатель науч.-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – Москва: Мысль, 2010.
11. Самаркина М.Д. Можно ли сфотографировать вампира: теоретический аспект // Рок-педагогика: теория и практика: к 60-летию С.П. Лавлинского: сборник ненаучных трудов / сост. и ред. В.Я. Малкина. – Москва: Эдитус, 2020. – С. 97-102.
12. Скотт Пулл У. Пустошь. Первая мировая и рождение хоррора / пер. А.С. Яковлева. – Москва: АСТ, 2023.
13. Сонтаг С. Болезнь как метафора / пер. с англ. А. Соколинской, М. Дадяна. – Москва: Ad Marginem, 2016.
14. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова. – Москва: Ad Marginem, 1999.
15. Хан Бён-Чхоль. Агония эроса. Любовь и желание в нарциссическом обществе / пер. с нем. А.С. Салина. – Москва: АСТ, 2023.
16. Хан Бён-Чхоль. Аромат времени. Философское эссе об искусстве созерцания / пер. с нем. А.С. Салина. – Москва: АСТ, 2023.
17. Хапаева Д. О культе смерти, вампирах, зомби и трансгуманизме // Археология русской смерти. 2017. №1 (4). С. 7-19.
18. Хапаева Д. Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма / пер. с англ. Д. Ускова, Л. Житковой. – Москва: НЛО, 2020.
19. Шмидт Г. Философский словарь / под ред. Г. Шишкоффа. – Москва: Республика, 2003.
20. Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь / пер. с швед. И. Матыциной. – Москва: НЛО, 2022.
21. Abbott S. Undead Apocalypse: Vampires and Zombies in the Twenty-first Century. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.
REFERENCES
1. Abbott S. Undead Apocalypse: Vampires and Zombies in the Twenty-first Century. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2016.
2. Ben'yaminova S. “Geroinya, mstitel'nitsa, mat': zhenskii obraz vampira v amerikanskom kinematografe XXI veka” [Heroine, Avenger, Mother: The Female Vampire in 21st Century American Cinema]. Versus, 2023, no. 3(4). P. 196-216. (in Russian)
3. Foucault M. Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tyur'my [Discipline and Punish: The Birth of the Prison]. Moscow, Ad Marginem, 1999. (in Russian)
4. Han Byung-Chul. Agoniya erosa. Lyubov' i zhelanie v nartsissicheskom obshchestve [The Agony of Eros]. Moscow, AST, 2023. (in Russian)
5. Han Byung-Chul. Aromat vremeni. Filosofskoe esse ob iskusstve sozertsaniya [The Scent of Time]. Moscow, AST, 2023. (in Russian)
6. Ionov A.Yu. “Opredelenie zhanra khorror na osnove zhanrovoi teorii Rika Oltmena” [Defining horror genre based on Rick Altman genre theory] Vestnik RGGU. Seriya “Filosofiya. Sotsiologiya. Iskusstvovedenie” [RSUH/RGGU Bulletin. Series Philosophy. Social Studies. Art Studies], 2015, no. 2. P. 107-114. (in Russian)
7. Johannisson, K. Istoriya melankholii. O strakhe, skuke i chuvstvitel'nosti v prezhnie vremena i teper' [History of melancholy. About fear, boredom and sensitivity in the old days and now]. Moscow, NLO, 2022. (in Russian)
8. Khapaeva D. “O kul'te smerti, vampirakh, zombi i transgumanizme” [On the Cult of Death, Vampires, Zombies and Transhumanism] Arkheologiya russkoi smerti [Archaeology of Russian Death], 2017, no. 1(4). P. 7-19. (in Russian)
9. Khapaeva D. Zanimatel'naya smert'. Razvlecheniya epokhi postgumanizma [The Celebration of Death in Contemporary Culture]. Moscow, NLO, 2020. (in Russian)
10. Lipavskii L. Issledovanie uzhasa [Investigation of Horror]. Moscow, Ad Marginem, 2005. (in Russian)
11. Maroshi V.V. “K mifopoetike pecheni v evropeiskoi i russkoi literature” [On mythopoetics of liver in European and Russian literature]. Imagologiya i komparativistika [Imagology and Comparative Studies], 2016, no. 1. P. 128-152. (in Russian)
12. Mikhailova T., Odesskii M. Graf Drakula: opyt opisaniya [Count Dracula: An Essay in Description]. Moscow, RGGU, 2019. (in Russian)
13. Mokhov S. Istoriya smerti. Kak my boremsya i prinimaem [History of Death. The Way We Struggle and Accept]. Moscow, Individuum, 2020. (in Russian)
14. Nessel'shtraus Ts.G. “"Plyaski smerti" v zapadnoevropeiskom iskusstve XV veka kak tema rubezha Srednevekov'ya i Vozrozhdeniya” [“Dances of death” in Western European art of the 15th century as a theme at the turn of the Middle Ages and the Renaissance]. Problemy razvitiya zarubezhnogo iskusstva ot Srednikh vekov k Novomu vremeni. Pamyati Tsetsilii Genrikhovny Nessel'shtraus (1919–2010) [Problems of the Development of Foreign Art from the Middle Ages to the New Age]. Saint-Petersburg, In-t imeni I.E. Repina, 2013. P. 23-34. (in Russian)
15. Samarkina M.D. “Mozhno li sfotografirovat' vampira: teoreticheskii aspekt” [Is It Possible to Photograph a Vampire: Theoretical Aspect]. Rok-pedagogika: teoriya i praktika: k 60-letiyu S.P. Lavlinskogo: sbornik nenauchnykh trudov [Rock-pedagogy: Theory and Practice]. Moscow, Editus, 2020. P. 97-102. (in Russian)
16. Scott Poole W. Pustosh'. Pervaya mirovaya i rozhdenie khorrora [Wasteland: The Great War and the Origins of Modern Horror]. Moscow, AST, 2023. (in Russian)
17. Schmidt G. Filosofskii slovar' [Philosophical Dictionary]. Moscow, Respublika, 2003. (in Russian)
18. Stepin V.S. (ed.), Novaya filosofskaya entsiklopediya [New Encyclopedia of Philosophy]: in 4 vol., 2nd ed., corr. and exp. Moscow, Mysl', 2010. (in Russian)
19. Sontag S. Bolezn' kak metafora [Illness as Metaphor]. Moscow, Ad Marginem, 2016. (in Russian)
20. Vasil'eva E. Fotografiya i vnelogicheskaya forma [Photography and Non-logical Forms]. Moscow, NLO, 2019. (in Russian)
21. Vdovin A. Monstry u poroga. Drakula, Frankenshtein, Vii i drugie literaturnye chudovishcha [Monsters on the Doorstep]. Moscow, MIF, 2024. (in Russian)
О журнале
- История журнала
- Редакционный совет и редакционная коллегия
- Авторы
- Этические принципы
- Правовая информация
- Контакты
Авторам
- Регламент принятия и рассмотрения статьи
- Правила оформления статьи
- Правила оформления сносок
- Правила оформления списка литературы
Номера журналов
- Артикульт-59 (3-2025)
- Артикульт-58 (2-2025)
- Артикульт-57 (1-2025)
- Артикульт-56 (4-2024)
- Артикульт-55 (3-2024)
- Артикульт-54 (2-2024)
- Артикульт-53 (1-2024)
- Артикульт-52 (4-2023)
- Артикульт-51 (3-2023)
- Артикульт-50 (2-2023)
- Артикульт-49 (1-2023)
- Артикульт-48 (4-2022)
- Артикульт-47 (3-2022)
- Артикульт-46 (2-2022)
- Артикульт-45 (1-2022)
- Артикульт-44 (4-2021)
- Артикульт-43 (3-2021)
- Артикульт-42 (2-2021)
- Артикульт-41 (1-2021)
- Артикульт-40 (4-2020)
- Артикульт-39 (3-2020)
- Артикульт-38 (2-2020)
- Артикульт-37 (1-2020)
- Артикульт-36 (4-2019)
- Артикульт-35 (3-2019)
- Артикульт-34 (2-2019)
- Артикульт-33 (1-2019)
- Артикульт-32 (4-2018)
- Артикульт-31 (3-2018)
- Артикульт-30 (2-2018)
- Артикульт-29 (1-2018)
- Артикульт-28 (4-2017)
- Артикульт-27 (3-2017)
- Артикульт-26 (2-2017)
- Артикульт-25 (1-2017)
- Артикульт-24 (4-2016)
- Артикульт-23 (3-2016)
- Артикульт-22 (2-2016)
- Артикульт-21 (1-2016)
- Артикульт-20 (4-2015)
- Артикульт-19 (3-2015)
- Артикульт-18 (2-2015)
- Артикульт-17 (1-2015)
- Артикульт-16 (4-2014)
- Артикульт-15 (3-2014)
- Артикульт-14 (2-2014)
- Артикульт-13 (1-2014)
- Артикульт-12 (4-2013)
- Артикульт-11 (3-2013)
- Артикульт-10 (2-2013)
- Артикульт-9 (1-2013)
- Артикульт-8 (4-2012)
- Артикульт-7 (3-2012)
- Артикульт-6 (2-2012)
- Артикульт-5 (1-2012)
- Артикульт-4 (4-2011)
- Артикульт-3 (3-2011)
- Артикульт-2 (2-2011)
- Артикульт-1 (1-2011)
- Отозванные статьи
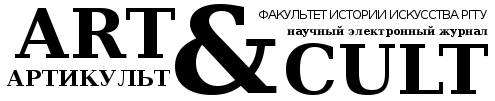
.png)